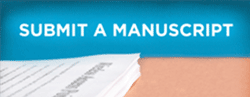Ketamine: History, Contemporary Perspective, and New Opportunities. A Narrative Review
- Authors: Linkova T.V.1, Diordiev A.V.1,2, Panova M.S.1, Iakovleva E.S.1, Afukov I.I.2,3, Shagurin R.V.1, Ivanina E.S.4
-
Affiliations:
- Scientific and Practical Center for Child Psychoneurology
- The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
- Children’s City Clinical Hospital No. 9
- Clinical and Research Institute of Emergency Pediatric Surgery and Trauma — Dr. Roshal’s Clinic
- Issue: Vol 19, No 3 (2025)
- Pages: 184-199
- Section: Reviews
- Submitted: 31.03.2025
- Accepted: 15.08.2025
- Published: 25.08.2025
- URL: https://rjraap.com/1993-6508/article/view/677923
- DOI: https://doi.org/10.17816/RA677923
- EDN: https://elibrary.ru/OGYGVC
- ID: 677923
Cite item
Abstract
Ketamine, an N-methyl-D-aspartate receptor antagonist, developed more than 60 years ago as an anesthetic, has experienced a varied history but remains relevant in modern global medical practice. Over the past several decades, it has revealed new potential extending far beyond anesthesia. There is growing interest in the use of subdissociative doses of ketamine to treat various types of acute and chronic pain and depression. Its efficacy is similar to that of opioids, with a low incidence of transient adverse effects. Ketamine can be administered via multiple routes and is nearing the status of an ideal analgesic for the prehospital setting because of its favorable safety profile. In patients with severe trauma, ketamine is likely the optimal analgesic, as it provides hemodynamic stability without an increase in intracranial pressure. Ketamine is particularly useful in patients with opioid dependence, opioid tolerance, or opioid-induced hyperalgesia. The discovery of its multiple molecular targets and related effects enables the use of this unique agent in many areas of clinical and experimental medicine, including anesthesiology, emergency medicine, intensive care, pain management, psychiatry, research on the neurobiological basis of consciousness, and modeling of pathological mental states.
This article presents the history of ketamine development and reviews current understanding of its mechanisms of action, methods, and areas of application.
Keywords
Full Text
Введение
Медицина — сфера человеческой деятельности, где, в связи с непрерывным развитием науки и накоплением практического опыта, изменения остро ощутимы, востребованы и значимы. В медицинской истории (и анестезиология — не исключение) большинство препаратов зачастую проживают свой век и уходят навсегда, а их место занимают новые. Однако иногда немного изменяется научный угол зрения — и старый, более полувека используемый препарат с нежелательными побочными эффектами и с традиционно «ограниченными возможностями» начинает «играть» совершенно по-новому, заново расширяя границы своего применения, вновь привлекая внимание врачей-анестезиологов и врачей других специальностей, которые, на первый взгляд, далеки от анестезиологии. Кетамин изначально создавался как анестетик, но в течение нескольких последних десятилетий было обнаружено, что его потенциал уже перерос эти рамки, и он может гораздо эффективнее использоваться в медицинской сфере. Растущий объём публикаций продемонстрировал клиническую ценность кетамина в совершенно иных ситуациях, чем просто интраоперационная анестезия. Значительно возросла его роль в терапии боли и резистентной депрессии. Одновременно с этим усилия по раскрытию механизмов, лежащих в основе действия кетамина, привели к тому, что появилась возможность взглянуть по-новому на взаимоотношения между сознанием и анестезией.
Побочные эффекты, связанные с использованием традиционных доз, привели к утрате популярности кетамина у практических врачей, несмотря на его несомненные полезные возможности. При понимании разнообразия механизмов действия, изменении подходов к дозированию и методам применения кетамин сегодня может быть широко востребован в различных областях медицины, но главным образом — в терапии острой и хронической боли и связанной с ней депрессии, практически не имея побочных эффектов и противопоказаний.
Цель
Актуализация интереса к препарату, который имеет длительную историю применения в анестезиологии.
Методология поиска источников
Авторами был выполнен поиск научных публикаций в электронных базах данных и библиотеках PubMed (MEDLINE), Google Scholar и eLibrary. Поиск осуществляли по следующим ключевым словам на русском и английском языке: «кетамин», «блокада NMDA», «лечение нейропатической боли кетамином», «ketamine», «NMDA blocade», «neuropathic pain management of ketamine». Глубина поиска — с 2019 по 2024 год. В исследование включали рукописи, преимущественно опубликованные за последние 5 лет (ввиду их актуальности и соответствия современным клиническим рекомендациям и подходам к обезболиванию родов). Однако в случае высокой научной значимости в работу интегрировали и более ранние статьи (например, публикации, ставшие основополагающими в данной области, широко цитируемые исследования или работы, в которых впервые описаны ключевые вопросы фармакодинамики и механизмы действия кетамина). Авторы проводили анализ заголовков и аннотаций статей независимо друг от друга, после чего извлекали полный текст релевантных работ. Из анализа исключали нерандомизированные и неконтролируемые исследования, описания клинических случаев. Исходно было найдено 8032 публикации, из которых 7932 были исключены по вышеуказанным критериям. В окончательный анализ вошли 100 научных работ.
Результаты и обсуждение
История создания
История кетамина начинается с синтеза фенциклидина в 1950-е в Детройте (США), в лабораториях Parke, Davis & Company (P&D), где в те времена вёлся поиск «идеального» анестетика с анальгетическими свойствами [1]. Фенциклидин, несмотря на высокую анальгетическую мощность, оказался непригоден в качестве анестетика у людей из-за частых и тяжёлых побочных эффектов. В 1962 году C. Stevens синтезировал 2-(o-хлорфенил)-2-метиламиноциклогексанон (номер клинического испытания СI-581). Как было описано чуть позже [2], препарат вызывал в эксперименте отличную анестезию, действовал кратковременно, не угнетал дыхание даже в высоких дозах, имел низкую органную токсичность. D.A. McCarthy и соавт. заключили, что CI-581 обеспечивает удовлетворительный уровень анестезии короткого действия в широком диапазоне доз у обезьян, а механизмы анестетических эффектов схожи с таковыми фенциклидина и отличаются от анестетического действия барбитуратов: СI-581 вызывал каталепсию, аналгезию и анестезию, но не обладал гипнотическими свойствами [2]. Препарат был отобран для клинических испытаний. Поскольку структурно он являлся и кетоном, и амином, то получил название кетамин. Его анальгетическая мощность составила 1/4 от таковой фенциклидина [3]. 3 августа 1964 г. профессор фармакологии E.F. Domino и профессор анестезиологии G. Corssen впервые применили кетамин в дозах 0,1–2 мг/кг у волонтёров-мужчин 25–48 лет, показав наглядно его анестетические, анальгетические свойства, безопасность и быстродействие [1, 2]. Публикация о результатах первого применения кетамина у людей в соавторстве E.F. Domino, P. Chodoff и G. Corssen вышла в 1965 году. На сегодняшний день это по-прежнему лучшее описание клинической картины кетаминового наркоза [3]. Побочные эффекты в периоде пробуждения были разнообразны и наблюдались у каждого третьего испытуемого [4]: отмечались заметные отклонения в настроении и восприятии, иногда со страхами, тревогой и агрессией; некоторые пациенты были замкнутыми. Почти все описывали тотальную нечувствительность, вплоть до утверждений об отсутствии у них рук или ног, или об ощущении, что они умерли. Отмечались нистагм, атаксия, чувство изоляции, враждебность, апатия, сонливость, опьянение, двигательные стереотипии. Ряд испытуемых имели яркие видения, похожие на сон, или откровенные галлюцинации. Благодаря описанному чувству «разобщения» E.F. Domino был предложен термин «диссоциативный анестетик» [4]. Позже диссоциативная анестезия была описана как электрофизиологическая и функциональная диссоциация между таламокортикальной и лимбической системами [1, 5].
В 1971 г. M.S. Sadove и соавт. показали, что «субдиссоциативные дозы» (0,44 мг/кг) кетамина сохраняли анальгетические свойства и имели при этом менее выраженные побочные эффекты [6]. В 1982 г. P.F. White и соавт. представили блестящий обзор по базовой фармакологии кетамина и его изомеров, описали способы и схемы введения препарата у разных групп пациентов [7]. Показания к анестезиологическому применению кетамина и конкретные рекомендации, приведённые в этом обзоре, можно считать актуальными до сих пор. Психоделические эффекты и способность кетамина вызывать переживания, похожие на «околосмертные», привлекли внимание исследователей к изучению влияния кетамина на процессы глутамат-опосредованной эксайтотоксичности, протекающие в центральной нервной системе во время критических состояний и вызывающие повреждение мозга [8].
В ближайшие 20–30 лет происходит революционный переворот в нашем знании о кетамине. Открытие NMDA (N-метил-D-аспартат) рецепторов и их неконкурентной блокады кетамином [9], понимание роли NMDA-рецепторов в синаптической пластичности [10], лежащей в основе памяти, мышления и сознания, — всё это привело к огромному прогрессу в изучении функций психики и патофизиологии гипералгезии, острой и хронической боли, шизофрении, депрессии и других процессов, связанных с глутаматергическими влияниями через NMDA-рецепторы.
Фармакология
Химически кетамин — это производное фенциклидина, арилциклоалкиламин (рис. 1). Это высоколипофильная молекула с быстрым распределением и немедленным проникновением в центральную нервную систему. Уровень связывания с белками плазмы низкий, 10–50% [11].
Рис. 1. Формула кетамина.
Энантиомеры
Традиционно используемая форма кетамина представляет собой рацемическую смесь двух энантиомеров, S(+)-кетамина и R(–)-кетамина, которые имеют в своём составе асимметричные атомы углерода. Две эти молекулы имеют разные психотомиметические, анальгетические и антидепрессивные эффекты. Изолированная S(+)-форма кетамина на сегодняшний день доступна лишь на некоторых рынках мира [5, 12, 13]. Чистый правовращающий S(+)-изомер кетамина демонстрирует в 4 раза более сильную аффинность к NMDA-рецепторам, чем R(–)-кетамин. Более того, анальгетический и анестетический потенциалы S(+)-кетамина также в 4 раза выше, чем у R(–)-кетамина. Следовательно, для уменьшения побочных психотомиметических эффектов необходимы более низкие дозы S(+)-кетамина по сравнению с R(–)-кетамином. По сравнению с рацемической смесью S(+)-кетамин имеет анестетический и анальгетический потенциал вдвое выше: более быстрое развитие анестезии, более быстрое восстановление с меньшим количеством побочных эффектов. Кардиоваскулярные эффекты рацемической смеси и S(+)-кетамина схожи. S(+)-кетамин имеет ясные преимущества перед рацемической смесью в скорости и качестве восстановления после анестезии. В клинической практике рекомендовано применять S(+)-кетамин в сочетании с гипнотиками или седативными средствами, так как даже субгипнотические дозы его могут вызывать галлюцинации [11, 14].
Пути введения и фармакокинетика
Кетамин можно вводить практически любым способом (табл. 1). Приём кетамина внутрь считается наименее выгодным из-за низкой биодоступности и значительно выраженного эффекта первого прохождения через печень [15, 16]. Поскольку кетамин — одно из психотропных веществ, которыми злоупотребляют повсеместно наиболее часто, применение его внутрь не рекомендовано. У женщин, как правило, метаболизм кетамина более быстрый (почти на 20% быстрее, чем у мужчин), тогда как у пожилых людей имеется склонность к замедлению этого процесса [17]. Кетамин противопоказан во время беременности и лактации [12, 18]. По причине короткого периода полужизни не требуется коррекции доз кетамина при нарушении функции почек [19].
Таблица 1. Пути введения кетамина и фармакокинетика. Адаптировано из A. Riccardi и соавт., 2023 [11], S.P. Cohen и соавт., 2018 [20]
Table 1. Routes of administration of ketamine and their pharmacokinetics. Adapted from A. Riccardi et al., 2023 [11], S.P. Cohen et al., 2018 [20]
Путь введения | Доза | Начало действия | Длительность действия | Биодоступность |
Внутривенный | 0,15–0,3 мг/кг болюс 0,15–0,3 мг/(кг×час) инфузия | 30 сек | 5–10 мин для болюса | 100% |
Внутримышечный | 0,5–1 мг/кг | 2–5 мин | 30–75 мин | 93% |
Интраназальный | 1 мг/кг | 5–10 мин | 45–120 мин | 8–45% |
Оральный | 0,5 мг/кг каждые 12 часов | 5–20 мин | 2–4 часа | 17–29% |
Трансдермальный | 25 мг/24 часа | 2 дня | ? | Менее 5٪ |
Подкожный | 0,05–0,15 мг/(кг×час) | 10–30 мин | 45–120 мин | 75–95% |
Ректальный | 10 мг/кг | 5–15 мин | 2–3 часа | 11–25% |
Кетамин метаболизируется в печени посредством цитохромов CYP2B6 и CYP3A4 с образованием [R, S]-норкетамина, который преобразуется в 6-гидроксиноркетамин и 5, 6-дегидроноркетамин [17]. Эти метаболиты имеют длительный период полужизни до 3 суток и, согласно разным авторам, обеспечивают пролонгированный анальгетический и антидепрессивный эффекты [17, 21]. Норкетамин появляется в крови через 2–3 минуты после внутривенного введения болюса кетамина и достигает пика концентрации через 30 минут. Норкетамин — молекула с анальгетическими свойствами, чья анальгетическая мощность составляет приблизительно 20–30% кетамина. Известно, что элиминация норкетамина после однократного введения кетамина происходит медленно: норкетамин определяется в плазме через 5 часов после введения кетамина и в значительной степени обусловливает анальгетический эффект, наблюдаемый в фазу элиминации. Из-за кумуляции норкетамина потребность в кетамине при продлённой инфузии снижается со временем.
Механизмы действия
Главный механизм действия кетамина — блокада глутаматергических нейронов посредством его антагонистического действия на NMDA-рецепторы. Это происходит путём неконкурентной блокады открытых глутаматергических каналов, главным образом в префронтальной коре и гиппокампе. Кетамин также активирует префронтальную кору, блокируя тормозные интернейроны — один из механизмов, ответственных за его психотомиметические эффекты [22].
Классическая мишень кетамина — фенциклидин-связывающий сайт NMDA-рецепторов. Рецептор N-метил-D-аспартата представляет собой полимер из 4 субъединиц, окружающих ионотропный кальциевый канал [22]. Основной эндогенный агонист NMDA-рецепторов — глутамат (ион глутаминовой кислоты). Триггером его высвобождения из везикул пресинаптической мембраны является ноцицептивный импульс. Эндогенный антагонист NMDA-рецепторов — магний [11]. Магний связан с NMDA-рецептором в состоянии покоя. Сайт связывания кетамина в этом же рецепторе находится рядом с сайтом связывания магния (рис. 2). Если ноцицептивный стимул достаточно интенсивен, глутамат связывается с рецептором, а магний из канала вытесняется. Канал открывается для входящего тока ионов натрия и кальция, а также оттока ионов калия, и происходит деполяризация постсинаптической мембраны [12, 22]. Этот процесс запускает внутриклеточное высвобождение кальция, что далее ведёт к нейрональной трансмиссии ноцицептивного сигнала. Взаимодействуя с открытым каналом (возбуждённым рецептором), кетамин блокирует его, прекращает входящий ток кальция и вызывает аналгезию. В более высоких дозах это приводит к разобщению связей между таламокортикальной и лимбической системами, вызывая развитие амнезии и анестезии [4, 22].
Рис. 2. Схема строения NMDA-рецептора. Сайты связывания с лигандами: NMDA — глутамат, GLY — глицин, PCP — фенциклидин/кетамин, Mg2+ — ион магния.
Существует как минимум два различных механизма неконкурентного антагонизма кетамина к NMDA-рецепторам. Это, во-первых, блокада открытого канала путём связывания с сайтом внутри поры канала, что приводит к закрытию канала с уменьшением среднего времени его работы. И, во-вторых, аллостерический механизм, посредством которого снижается частота открытия каналов [5]. Детально механизмы действия кетамина во всём их многообразии описаны в вышеупомянутых публикациях. Присутствие магния увеличивает сродство NMDA-рецепторов к кетамину, синергизм кетамина и магния крайне важен для обеспечения аналгезии; и это сочетание с анальгетической целью становится даже более интересным, если предполагать, что и при депрессии, и при хронической боли концентрация магния в головном мозге снижена. Добавление магния сульфата в дозе 50 мг/кг к анальгетическому болюсу кетамина, а магния сульфата в дозе 10 мг/(кг×час) — к инфузии кетамина, видимо, усиливает анальгетическое действие кетамина [11]. Кроме того, представляется, что инфузия магнезии улучшает стабильность гемодинамики [23].
Блокада кетамином NMDA-рецепторов участвует в уменьшении проявлений истощения спинного мозга — главной причины развития хронической боли [24]. Сильная боль активирует NMDA-рецепторы с гипервозбудимостью спинальных интернейронов задних рогов, приводя к “wind-up” — «взвинчиванию» (форма синаптической пластичности, феномен прогрессирующего возрастания силы вызванных ответов с С-волокон в нейронах задних рогов спинного мозга в результате повторяющейся активации С-волокон и центральной сенситизации) [25].
Воздействием кетамина на NMDA и другие рецепторные системы объясняется и его антидепрессивный эффект, который представляет особый интерес как при лечении большой депрессии, так и при депрессивных состояниях, сопутствующих хронической и нейропатической боли [11]. Кетамин блокирует NMDA-рецепторы ГАМК-ергических интернейронов, что приводит к парадоксальному повышению экстрацеллюлярного глутамата путём стимуляции нисходящих тормозных путей и активации рецепторов α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты (AMPA), которые стимулируют сигнальный путь mTORC1, особенно в кортикальных пирамидальных возбудительных нейронах. Это критично важно для контроля симптомов депрессии [5, 26]. Новый механизм, объясняющий присущие кетамину свойства быстродействующего антидепрессанта, обнаружен совсем недавно: активация AMPA-рецепторов метаболитом R-, S-кетамина 2S, 6S;2R, 6R-гидроксиноркетамином; блокада AMPA угнетает антидепрессивный эффект кетамина [27].
Помимо взаимодействия с глутаматергическими системами кетамин воздействует на широкий спектр других мишеней, оправдывая свою уникальность и пользу (табл. 2).
Таблица 2. Разнообразие мишеней кетамина [адаптировано из 5, 12, 17, 26, 36]
Table 2. Variety of ketamine targets [adapted from 5, 12, 17, 26, 36]
Антагонизм/ингибирование | |
NMDA-рецепторы | Диссоциативная анестезия, амнезия Угнетение сенсорного восприятия Аналгезия |
HCN-каналы (управляемые циклическими нуклеотидами гиперполяризационно-активируемые каналы) | Сон, гипноз |
Кальциевые каналы (L-типа, вольтаж-зависимые) | Отрицательный инотропный эффект Вазодилатация Бронходилатация |
Вольтаж-зависимые натриевые каналы | Уменьшение парасимпатической активности Местноанестезирующий эффект |
Кальций-зависимые калиевые каналы с большой проводимостью (BK-каналы) | Анальгетические эффекты при нейропатической боли |
Н-холинорецепторы (α7-nAChR и β2-nAChR) | Амнезия Синаптическая пластичность, эксайтотоксичность, нейроапоптоз |
M1-холинорецепторы Угнетение мускариновых сигнальных путей, сопряжённых с G-белками | Амнезия, галлюцинации Повышение симпатического тонуса, бронходилатация, мидриаз |
М2- и М3-холинорецепторы | Амнезия, мидриаз (Возможно, гиперсаливация и усиление бронхиальной секреции) |
Агонизм/активация | |
Опиоидные рецепторы (особенно µ и δ) | Центральная аналгезия |
AMPA-рецепторы | Быстрый антидепрессивный эффект |
ГАМКА-рецепторы | Анестетические свойства |
Моноаминергическая передача (норадреналин, дофамин, серотонин) α1-адренорецепторы слюнных желёз β2-адренорецепторы трахеобронхиального дерева | Психотомиметические эффекты, Тахикардия, гипертензия, слёзоотделение, Тошнота, рвота Гиперсаливация Бронходилатация |
Несмотря на то, что кетамин, похоже, имеет отношение к потенцированию опиоидных эффектов, антиноцицептивные эффекты, опосредуемые через опиоидные рецепторы, могут различаться в зависимости от подтипа рецептора [28].
Взаимодействуя со всеми типами опиоидных рецепторов головного и спинного мозга, а также NMDA-рецепторами, кетамин уменьшает толерантность к опиоидам, опиоид-индуцированную гипералгезию и центральную сенситизацию [17, 22, 29]. Несмотря на то, что опиаты уменьшают восприятие боли посредством активации µ-рецепторов, они также активируют и NMDA-рецепторы, что приводит к постсинаптической гипервозбудимости, центральной толерантности и сенситизации. Кетамин обеспечивает опиоидсберегающий эффект через внеклеточные сигнальные пути — воздействуя на киназу ERK1/2, что помогает снизить количество побочных эффектов, таких как депрессия дыхания, рвота и толерантность. Кроме того, кетамин снижает аффинность рецепторов к субстанции Р — медиатору боли, прямо высвобождаемому из афферентных С-волокон [21, 22, 29].
Собраны доказательства того, что управляемые циклическими нуклеотидами гиперполяризационно-активируемые каналы (HCN-каналы), иногда упоминаемые как каналы-нейрональные пейсмейкеры, в значительной степени задействованы в кетамин-индуцированном сне [30].
Хроническая послеоперационная боль может возникать в 20% хирургических вмешательств и в 50–60% случаев, если вмешательство затрагивало нервные структуры [11]. Причиной послеоперационной нейропатической боли является активация микроглии в спинном мозге [5, 11, 25, 29]. Следовательно, влияние кетамина на клетки глии [29] способно облегчать послеоперационную боль. В основе этого влияния наиболее вероятны модуляция калиевых каналов Kir4.1 и блокада кетамином кальций-зависимых калиевых каналов с большой проводимостью (BK-каналов) микроглии [5], а также угнетение обратного захвата серотонина [21, 22]. Эти механизмы могут объяснить мощное влияние кетамина на нейропатическую боль и депрессивные состояния. Помимо ингибирования обратного захвата серотонина, кетамин модулирует обратный захват дофамина и норадреналина, вызывая (в высоких дозах) гиперадренергическое состояние [12].
Кетамин снижает концентрации ИЛ-6, TNF-α и C-реактивного белка, что улучшает контроль послеоперационной боли и послеоперационные исходы [29, 31, 32]. Снижение активности провоспалительных цитокинов и NO-синтазы, уменьшение продукции оксида азота, наряду со снижением эксайтотоксичности в результате угнетения NMDA-рецепторов, регуляцией транскрипции нейротрофического фактора мозга (BDNF) и снижением нейрональной и глиальной деполяризации, связано с нейропротективным эффектом кетамина [33].
Противовоспалительные, иммуномодулирующие, седативные и анальгезирующие свойства кетамина вкупе с прямым и опосредованным бронходилатирующим действием уже много лет представляют интерес в интенсивной терапии астматического статуса. Расслабление гладкой мускулатуры дыхательных путей объясняется, главным образом, ингибирующим действием кетамина на вольтаж-зависимые кальциевые каналы L-типа; но на самом деле механизмы, благодаря которым реализуется бронходилатирующий эффект кетамина, весьма многообразны, и в них вовлечены разнообразные рецепторные системы [34]. Угнетение кальциевых каналов также может быть связано с прямым кардиодепрессивным эффектом кетамина [5]. Однако влияние кетамина на сердечно-сосудистую систему остаётся не окончательно понятным. Например, кетамин имеет отрицательный инотропный эффект только у пациентов с дефицитом катехоламинов из-за прямого угнетения миоцитов, как это наблюдается у пациентов с травмой или получающих интенсивную терапию [11].
Многообразно влияние кетамина на холинергическую передачу, хотя сродство кетамина к мускариновым рецепторам в 10–20 раз меньше, чем к рецепторам NMDA. Холинергические нейроны широко представлены в гиппокампе, стриатуме и префронтальной коре [35, 36]; в целом, кетамин угнетает мускариновые сигнальные пути, связанные с процессами сознания, обучения и восприятия боли [36]. Кетамин является прямым неконкурентным антагонистом центральных Н-холинорецепторов [35]. В эксперименте субстанция GTS-21, агонист α7-подтипа никотиновых рецепторов (широко представленных, например, в гиппокампе), устраняла нарушения памяти распознавания у крыс, вызванные кетамином [37]. Угнетение α7-nAChR и β2-nAChR подтипов никотиновых рецепторов ингибирует спонтанную нейрональную сетевую активность и может вызывать кетамин-индуцированный нейроапоптоз [35]. Периферические холинергические эффекты кетамина связаны с повышением тонуса симпатической нервной системы, бронходилатирующим эффектом и мидриазом [12]. Влияние кетамина на периферические М2- и М3-холинорецепторы, широко представленные в гладкой мускулатуре дыхательных путей [12, 38], возможно, могло бы частично объяснить бронхорею и гиперсаливацию, хотя это противоречит м-холиноблокирующим свойствам кетамина. Однако, вероятнее всего, гиперсаливация связана с активацией кетамином корковых центров и далее, через верхний продольный пучок и ядро одиночного пути, со стимуляцией верхнего слюноотделительного ядра (висцеромоторного ядра лицевого нерва, расположенного в ретикулярной формации моста) [39, 40]. Кроме того, нельзя исключить гиперсаливацию в результате активации норадренергической передачи и возбуждения α1-адренорецепторов слюнных желёз [41] как одного из механизмов регуляции слюноотделения (выделение густой вязкой слюны). В большом количестве наблюдений премедикация атропином или её отсутствие не влияли на выраженность саливации при проведении анестезии/седации кетамином [42].
На уровне системной нейробиологии предполагается, что вызванное кетамином бессознательное состояние характеризуется диссоциацией холинергического тонуса и корковой активности. В целом, кетамин модулирует нейротрансмиттерные системы в результате разнообразного и многостороннего воздействия на различные рецепторы и сигнальные пути центральной нервной системы. Механизмы действия кетамина заметно отличаются от таковых пропофола или галогенированных эфиров. В отличие от большинства анестетиков кетамин, вероятно, не активирует вызывающее сон преоптическое вентролатеральное ядро гипоталамуса; но активирует субкортикальное пробуждающее ядро [43]. Это соответствует уникальным нейрохимическим свойствам кетамина. В отличие от большинства остальных общих анестетиков, в коре головного мозга кетамин опосредованно вызывает повышение уровня ацетилхолина — пробуждающего нейротрансмиттера [44]. Это зависит, в частности, от норадренергической передачи [45]. Кетамин стимулирует норадренергические нейроны медиальной префронтальной коры [46]. При этом высвобождение ацетилхолина в медиальной ретикулярной формации моста снижается, что частично объясняет способность кетамина изменять бодрствование/пробуждение и дыхание [47]. С нейрофизиологической точки зрения кетамин, в отличие от пропофола и севофлурана, усиливает электрическую активность мозга на электроэнцефалограмме в диапазоне около 40 Гц (γ-ритм низкой активности) [48], но, как все другие анестетики, подавляет высокочастотные гамма-ритмы [44] и усиливает тета- и дельта-активность [48].
Несмотря на различия на молекулярном и системном нейробиологическом уровнях, существует, по-видимому, общий нейросетевой эффект, который мог бы объяснить в целом функциональный результат потери чувствительности, вызываемый кетамином и изначально ГАМК-ергическими анестетиками [5]. В научных работах 2014–2016 годов было убедительно показано, что кетамин функционально прерывает кортикальные связи по мере анестезиологического дозирования, и этот паттерн следует в переднезаднем направлении. В исследованиях S. Blain-Moraes и соавт. [49] и V. Bonhomme [50] представлены результаты, полученные методами электроэнцефалографии и функциональной магнитно-резонансной томографии у людей. В эксперименте K.E. Schroeder и соавт. [51] с помощью внутричерепной кортикографии у макак было показано прямое структурное прерывание кортико-кортикальной передачи с сохранением соматосенсорной таламо-кортикальной передачи. J.J. Wong и соавт. [52] обнаружили, что в субанестетических дозах кетамин также изменяет паттерны функциональных связей — прерывает связи между субгенуальной зоной передней поясной коры, которая участвует в модуляции настроения, и сетевым кластером, включающим таламус, гиппокамп и ретроспленальную кору. Используя инфузионную дозу кетамина, часто применяемую в лечении депрессии, S.D. Muthukumaraswamy и соавт. [53] показали сокращение функциональных связей во фронто-париетальных нейросетях, сопровождаемое усилением ощущения блаженства. Таким образом, модуляция паттернов нейрональных связей мозга может также предоставить нам нейросетевой механизм действия кетамина на депрессию.
Применение кетамина в современной клинической практике
Системные эффекты
Сердечно-сосудистые
Как в субанестетических, так и в анестетических дозах кетамин — преимущественно симпатомиметик, вызывающий повышение артериального давления и тахикардию [3] посредством прямой стимуляции структур центральной нервной системы. Однако в высоких дозах (20 мг/кг) кетамин вызывает прямое угнетение миокарда [54]. В условиях нарушенной ауторегуляции (например, поперечное повреждение спинного мозга или истощение катехоламинов) эти эффекты кардиодепрессии становятся видимыми и значительными. Кроме того, кетамин оказывает прямое расслабляющее действие на гладкую мускулатуру сосудов. И всё-таки, благодаря симпатически-опосредованной вазоконстрикции, в целом имеет стабилизирующий эффект на системное сосудистое сопротивление [5].
Дыхательные
Кетамин не вызывает клинически значимого угнетения дыхания у пациентов. Кроме того, кетамин уникален в своей способности сохранять рефлексы верхних дыхательных путей во время анестезии, разобщая утрату сознания с утратой активности мышц, расширяющих верхние дыхательные пути; более того, кетамин увеличивает активность подбородочно-язычной мышцы (m. genioglossus) [55]. Это вызывает подъём и выдвижение языка кпереди, увеличивая просвет верхних дыхательных путей, что предотвращает их коллабирование в дальнейшем. К тому же, в отличие от природных опиатов, таких как морфин, способных вызывать бронхообструкцию у пациентов с астмой [56], кетамин работает как бронходилататор [57]. Несмотря на тот факт, что дыхательные пути обычно поддерживаются в открытом состоянии при анестезии кетамином, внимание к защите верхних дыхательных путей остаётся неотъемлемой необходимостью, так как всё же есть риск частичной обструкции и аспирации. Кетамин усиливает секрецию слюны и потенциально увеличивает риск ларингоспазма, но сообщений на эту тему мало [58].
Неврологические
Поскольку в классических дозах кетамин увеличивает церебральный метаболизм, потенциально он может повышать внутричерепное давление, как и было показано в начальных исследованиях, поэтому он с осторожностью применялся у пациентов с объёмными поражениями и травмой головного мозга [59]. Однако при применении в комбинации с пропофолом или мидазоламом влияние кетамина на перфузию головного мозга сравнимо с другими традиционными комбинациями на основе опиоидов. Сегодня есть убедительные доказательства, что кетамин не повышает внутричерепное давление при нормокапнии [33, 60], даже при применении в высоких дозах при лечении суперрефрактерного эпилептического статуса [61].
Нейроапоптоз, нейротоксичность и нейропротекция
Одна из главных проблем, ограничивавших терапевтическое применение кетамина, — это возможность нейротоксичности; и один из важнейших вопросов, рассматриваемых в этой связи, — теоретический риск апоптоза и нейродегенерации, вызываемые препаратами для седации, аналгезии и анестезии у младенцев и детей младшего возраста, поскольку большинство анестетиков ассоциируются с повышением частоты апоптоза у лабораторных животных [62]. В последние годы бурно обсуждаются как нейропротективные, так и проапоптотические свойства кетамина [63] и его дозозависимые нейродегенеративные эффекты [35]. Тельца Olney, то есть повреждения цитоплазматических вакуолей, в нейронах поясной и ретроспленальной коры (части лимбической системы, отвечающие за эмоции, обучение, память, воображение; обработку информации о пространстве и событиях) у крыс, получавших антагонисты NMDA-рецепторов (кетамин, фенциклидин и МК-801), наблюдались при продлённой инфузии высоких доз (свыше 20 мг/кг) [64, 65]. Однако эти повреждения регрессировали в течение 24 часов после отключения инфузии [17]. С другой стороны, выявлен нейропротективный эффект кетамина в критических ситуациях, таких как травма головного мозга [33, 66], при которых нейрональное повреждение обусловлено повышением содержания глутамата — в этой ситуации кетамин может прервать порочный круг развития «глутаматной интоксикации». Кетамин угнетает распространение корковой деполяризации после травматического повреждения мозга; этот эффект может уменьшить протяжённость ишемического повреждения жизнеспособной периишемической ткани [67]. Кетамин, вероятно, оказывает нейропротективный эффект при ишемическом инсульте [60]. Кетамин также уменьшает повреждение гиппокампа, опосредованное фактором некроза опухоли TNF-α, которое возникает при остром воспалении [68]. Показано защитное действие кетамина от летальности, вызванной гипераммониемией при острой портосистемной энцефалопатии, путём нитроксид- и глутамат-опосредованной нейропротекции, с уменьшением степени отёка мозга [69]. Сходный нейропротективный эффект наблюдали у пациентов с суперрефрактерной эпилепсией [61].
Таким образом, вряд ли стоит пренебрегать возможностью использовать полезные качества кетамина как в педиатрической практике, так и в некоторых областях интенсивной медицины.
Дозирование. Концепция низких доз и области применения кетамина
Кетамин в классических дозах сохраняет свои позиции в анестезиологической практике, особенно — в педиатрии [13].
В наше время всё более актуальной темой становится использование кетамина в суб-диссоциативных (SDK — Subdissotiative Dose Ketamine), то есть низких и очень низких дозах (LDK — Low Dose Ketamine), вызывающих аналгезию без амнезии и диссоциативного состояния. В публикациях американского колледжа врачей неотложной помощи (ACEP) 2019 г. и Американского журнала по неотложной медицине от августа 2023 г. низкие дозы кетамина разделены на высокие субдиссоциативные (SDK) и низкие субдиссоциативные (LDK, от 0,3 мг/кг и ниже) дозы [70, 75]. При использовании низких доз кетамина показания к его применению значительно расширяются и выходят за пределы операционной, распространяясь в различные области клинической и экспериментальной медицины (табл. 3). Оптимальные анальгетические дозы кетамина широко варьируют в публикациях разных лет от 0,1 до 0,5 мг/кг [6, 18]. Однако дозы, превышающие 0,3 мг/кг, могут спровоцировать психотомиметические симптомы. В результате многие авторы определяют безопасную и эффективную дозу в пределах 0,15–0,3 мг/кг для болюса, 0,15–0,3 мг/(кг×час) для продлённой инфузии, 0,5–1 мг/кг для внутримышечного введения и 1 мг/кг для интраназального введения. Рекомендации обобщены в обзорах последних лет (табл. 4) [11, 18, 26, 70].
Таблица 3. Применение кетамина в современной клинической практике и экспериментальной медицине. Адаптировано из L. Li и соавт. [5]
Table 3. Use of ketamine in current clinical practice and experimental medicine. Adapted from L. Li et al. [5]
Анестезия | Аналгезия и седация | Психиатрия и нейробиология | |
Преимущественные показания | Острые показания | Хронические показания | Новое применение |
Гемодинамическая нестабильность Дети Неконтактные пациенты Травма головного мозга Бронхоспазм Боевые/массовые поражения | Процедуры Ожоги Ажитация/боль в отделении неотложной помощи Послеоперационная боль | Болевой синдром в онкологии Комплексный региональный болевой синдром Фантомные боли в конечностях Фибромиалгия Ишемическая боль Мигрень | Депрессия Суицидальные идеи Посттравматическое стрессовое расстройство Моделирование: шизофрения, сознание |
Таблица 4. Различные пути введения низких доз кетамина, адаптировано из A. Riccardi и соавт. [11], K. Vujović и соавт. [26], A. Beaudrie-Nunn и соавт. [70]
Table 4. Different routes of administration of low doses of ketamine, adapted from A. Riccardi et al. [11], K. Vujović et al. [26], A. Beaudrie-Nunn et al. [70]
Путь введения | Доза |
Внутривенный | 0,15–0,3 мг/кг болюс; 0,15–0,3 мг/(кг×час) инфузия |
Внутримышечный | 0,5–1 мг/кг |
Интраназальный | 1 мг/кг |
Оральный | 0,5 мг/кг каждые 12 часов |
Трансдермальный | 25 мг/24 часа |
Подкожный | 0,05–0,15 мг/(кг×час) |
Ректальный | 10 мг/кг |
Способ введения можно подбирать в зависимости от клинических условий:
- отдельные повторяемые введения при острой боли [71];
- продлённая инфузия, обычно не дольше 100 часов, для лечения хронической, нейропатической и некоторых форм острой боли [72, 73].
Более длительные инфузии (вплоть до 100 часов) приводят к стойкому анальгетическому эффекту от 4 до 8 недель, тогда как инфузии от 12 до 24 часов вызывают более короткий, но стабильный ответ до 7–10 дней [74].
Кетамин в низких дозах не превосходит, но сравним по эффективности с опиоидами и имеет незначительное количество преходящих побочных эффектов [24, 75]. Очевидно, что неадекватные меры контроля боли ассоциируются, в свою очередь, с более нежелательными и долговременными последствиями. Накопление данных привело к разработке руководств по терапии острой боли [73] и различных видов хронической боли [20, 72].
Острая боль, неотложная помощь
Лечение острой боли низкими дозами кетамина в отделении неотложной помощи — пожалуй, самое проверенное множеством работ показание [75–77]. В отделениях неотложной помощи общепринятым является введение болюса, но продлённая инфузия предпочтительна в ряде ситуаций [71]. Лечение острой боли должно быть быстрым и эффективным, способствовать стабилизации гемодинамики и снижать риск хронизации боли. Кетамин в анальгетических дозах соответствует всем этим критериям [11, 15] и чрезвычайно полезен у пациентов с опиоидной зависимостью, толерантностью к опиоидам, опиоид-индуцированной гипералгезией, либо получающих терапию бупренорфином, метадоном1 или налтрексоном [78], а также у пациентов с обострением нейропатической боли [72]. Кетамин используется для лечения тяжёлой острой боли у пациентов с нарушением функции почек и у пациентов в критическом состоянии с тяжёлой дыхательной недостаточностью с гипоксией и гиперкапнией [78]. Кетамин приближается к званию идеального анальгетика для догоспитального этапа благодаря своему профилю безопасности и возможности интраназального применения [79, 80]. У пациентов с тяжёлой травмой кетамин, вероятно, является лучшим анальгетиком, так как он улучшает гемодинамическую стабильность — особенно, если опиоиды не показаны из-за гипотензии [81]. В условиях неотложной помощи показано, что кетамин в низких дозах не уступает морфину, фентанилу и другим опиоидам [18, 78]. Кетамин можно безопасно использовать при черепно-мозговой травме, так как он не повышает внутричерепное давление, а по некоторым данным даже способствует его снижению, в том числе в случаях тяжёлой черепно-мозговой травмы и гипертонического криза [66].
Послеоперационная боль
Эффективность кетамина как анальгетика для лечения острой боли выдвигает его в качестве альтернативы опиоидам, либо дополнения к опиоидам со снижением присущих им побочных эффектов (седация, угнетение дыхания, тошнота и рвота). Более того, потенциальные выгоды постоперационного ведения должны стать дополнительным стимулом для применения кетамина, особенно в большой хирургии, и особенно при вмешательствах, затрагивающих нервную систему [11, 82].
Хроническая и нейропатическая боль
Применение кетамина в анальгетических дозах для лечения хронической боли представляет интерес из-за его изначально акцентируемого воздействия на NMDA-рецепторы, спинной мозг и глию [25, 73]. Представляется, что самое убедительное показание для применения кетамина — хроническая боль, не отвечающая на иную терапию, поскольку хроническая боль любого типа частично поддерживается процессами, которым кетамин противодействует [20, 83]. Учитывая тесную взаимосвязь хронической боли и депрессии [20], антидепрессивный эффект кетамина, по-видимому, играет важную роль в улучшении качества жизни пациентов с хронической болью [83]. В исследованиях предполагается, что кетамин может быть эффективен в облегчении хронической послеоперационной боли, хотя наилучшая доказательная база собрана для терапии комплексного регионарного болевого синдрома [84]. Именно поэтому низкие дозы кетамина рекомендованы для ситуаций комплексной хронической боли, так как существует очень мало противопоказаний или рисков, связанных с таким его применением [85].
Онкологическая боль
Кетамин может быть вполне приемлемым выбором для обеспечения пациентов с болью неопластического характера, которые не переносят опиоиды или имеют опиоид-индуцированную гипералгезию, стойкую боль или компоненты нейропатической боли [12, 29]. В ответ на опиоидный кризис кетамин в анальгетических дозах стали успешно применять у пациентов, страдающих раком, и при паллиативной помощи в ряде стран [85, 86]. Тем не менее проблему может представлять подбор правильной дозы для каждого пациента, так как более высокие дозы сопряжены с более выраженными психотомиметическими эффектами. В отличие от опиоидов, где доза постепенно увеличивается для достижения желаемого эффекта, доза кетамина должна оставаться постоянной во избежание изменчивости клинического эффекта [12, 85]. Как и с хронической болью, антидепрессивный эффект кетамина может стать ключевым элементом его анальгетического действия, что может способствовать контролю или уменьшению симптомов инвалидности у онкологических и паллиативных пациентов.
Головная боль
Кетамин, возможно, эффективен для контроля мигрени. Важно заметить, что временные рамки крайне важны для терапии мигрени, так как патофизиология и методы лечения различаются в продромальной фазе с аурой (вазоспазм) и в фазе головной боли (вазодилатация), где кетамин демонстрирует хороший эффект [87].
Эпилептический статус
Блокада NMDA-рецепторов снижает индуцированную судорогами эксайтотоксичность, обеспечивает нейропротекцию и новый подход к контролю рефрактерных судорог [88]. Традиционные противосудорожные препараты не контролируют судорожную активность у 20–40% пациентов. Это связано со снижением активности ГАМК-рецепторов и реципрокной активацией NMDA-рецепторов, что способствует притоку кальция в нейроны и эксайтотоксичности. Антагонист NMDA-рецепторов кетамин может блокировать поток Ca2+ и Na+ в нейроны и уменьшать эпиактивность.
Местная анестезия
Идея местного применения кетамина для блокады нервной проводимости была предложена еще в 1975 году, наряду с другими клиническими возможностями. Позже было теоретически предсказано прямое действие кетамина на натриевые каналы терминалей периферических нервов. Идея использования кетамина для индукции местной анестезии занимательна и заслуживает дальнейшего изучения [89].
Депрессия
Имеется возрастающий интерес к применению кетамина в качестве потенциального терапевтического средства для лечения аффективных (эмоциональных) расстройств, особенно депрессии. Даже однократная доза кетамина может оказать быстрый антидепрессивный эффект при биполярном [90] и большом депрессивном расстройствах [91], устойчивых к другим видам терапии. Примечательно, что это также включает резкое снижение суицидальных идей [92]. Повторные дозы кетамина могут уменьшить симптомы депрессии в степени, сравнимой с электросудорожной терапией (либо, возможно, быстрее и эффективнее); и это может даже стать успешным способом лечения депрессии, резистентной к электросудорожной терапии [90].
Посттравматическое стрессовое расстройство
Одно из новейших применений кетамина — в качестве потенциального средства терапии посттравматического стрессового расстройства. Описан случай почти двухнедельной ремиссии у ребёнка с посттравматическим стрессовым расстройством с регрессией тяжёлых эмоциональных расстройств после двух применений кетамина в аспекте процедурной седации [93].
Модели шизофрении
С момента открытия у кетамина наблюдали способность вызывать симптомы, сходные с таковыми при шизофрении, что позволяет использовать этот препарат для моделирования шизофрении с целью её изучения. В то время как сейчас, по-видимому, частичного совпадения симптоматики и даже схожих эффектов на рецепторы недостаточно для объяснения сложной нейропатологии при шизофрении, кетамин, несомненно, облегчает осмысление и стимулирует научный поиск в этом отношении [94].
Неблагоприятные эффекты
Имеющаяся современная доказательная база позволяет считать, что кетамин в анальгетических дозах имеет лучший профиль безопасности, чем опиоиды [78]. Психотомиметические эффекты могут встречаться при применении анальгетических доз кетамина. Они чаще дозозависимы и большей частью наблюдаются при использовании доз, превышающих 0,35 мг/кг [17, 25, 74]. Эти эффекты включают деперсонализацию, дезорганизацию мыслительной деятельности и сознания, галлюцинации, умственное и эмоциональное отупение; они обычно проходят в течение 30 минут от введения первой дозы либо после начала продлённой инфузии [95]. Кроме того, кетамин может влиять на память, но это основано на исследованиях при злоупотреблении, когда эффект препарата невозможно рассмотреть отдельно от других мешающих факторов. Этот эффект не относится к применению кетамина в анальгетических дозах, особенно при назначении в острой ситуации или изолированно, но должен учитываться при долгосрочной терапии [17]. Анальгетические дозы кетамина ассоциируются с некоторыми другими побочными эффектами, к ним относятся нистагм и головокружение — наиболее распространённые из тех, что проходят сами по себе [12, 17]. Тахикардия и повышение артериального давления не характерны для анальгетических доз и обычно проходят самопроизвольно в течение 30 минут после введения [95]. Диплопия и мидриаз возможны, но, как правило, выражены незначительно и исчезают спонтанно даже при продлённой инфузии [17]. Рвота возникает реже при применении кетамина по сравнению с опиоидами, но вполне возможна, особенно при внутримышечном введении; рвоту можно контролировать при помощи ондансетрона [71, 78].
Несмотря на то, что повышение уровня активности трансаминаз никогда не наблюдалось при изолированном назначении кетамина даже у пациентов с тяжёлыми поражениями печени, гиперферментемия может развиться при продлённой (свыше 100 часов) инфузии [83, 96]. Однако и при продлённой инфузии кетамина после прекращения терапии происходит нормализация уровня активности трансаминаз [96].
Назначение кетамина внутрь связано с более высокой частотой психотомиметических эффектов в начале терапии. Причина этого — невозможность спрогнозировать исходную биодоступность для каждого пациента и, соответственно, заблаговременно подобрать эффективную и безопасную дозу [97–99].
Летальная доза кетамина у людей составляет около 60 мг/кг или 4,2 г для субъекта с массой тела 70 кг [98]; есть сообщения о нефатальных случаях (восстановление без осложнений) с 10-кратным превышением максимальных анальгетических доз [22, 24]. Даже в педиатрической практике значительное превышение терапевтических диссоциативных доз в 5–100 раз не выявило видимого вреда, не считая продлённой диссоциации [12, 98].
Противопоказания
Абсолютных противопоказаний к применению кетамина в низких дозах немного. Они включают:
- применение в первые 3 месяца жизни из-за возможного нейронального повреждения развивающегося мозга, как это показано на моделях животных [62], и анатомо-физиологических особенностей дыхательных путей [75];
- беременность, как предложено в изученных работах [12, 18];
- печёночную порфирию [12];
- наличие аллергии на кетамин [18].
Другие противопоказания могут проистекать из диссоциативных доз, но это не означает, что их можно автоматически отнести к анальгетическим дозам. По этой причине данные противопоказания могут быть скорее относительными, чем абсолютными [20]. Осторожность следует проявлять у пациентов с тяжёлой и неконтролируемой гипертензией [95], стойкой сердечной недостаточностью [18], психозом [17] и глаукомой (только по экспериментальным данным) [12].
Черепно-мозговая травма более не считается противопоказанием [59, 66].
Заключение
Возрастающее количество наблюдений в отношении специфических рецепторных эффектов кетамина свидетельствует в пользу его эффективности. Именно поэтому сегодня история препарата, созданного более 60 лет назад как средство для моноанестезии, не заканчивается. Кетамин заслуживает с нашей стороны пристального внимания, переосмысления и пересмотра тактики его использования. Анестетик, адъювант, средство для седации, препарат неотложной помощи, анальгетик для разных видов боли, антидепрессант — кетамин воистину переживает клинический ренессанс с расширением возможностей и представляет сегодня большой научный и клинический интерес. Интерес к кетамину в рамках условий и популяций пациентов может быть отражением его впечатляюще благоприятного соотношения риск/польза. Психотомиметические эффекты зачастую остаются лимитирующим фактором для широкого применения препарата в клинической практике. Поскольку кетамин изначально был разработан как препарат с меньшим риском делирия пробуждения (ставшего для фенциклидина препятствием к применению в клинической практике), теперь перед учёными стоит задача создать более короткодействующие аналоги кетамина для дальнейшего сокращения психогенных эффектов [100].
С научной точки зрения сегодня кетамин актуален как инструмент изучения разума для дальнейшего наполнения наших нейробиологических основ сознания и изменённых состояний мозга; исследования в разных направлениях непрерывно и активно продолжаются.
Дополнительная информация
Вклад авторов. Т.В. Линькова — определение концепции, анализ данных, визуализация данных, написание и редактирование черновика рукописи; А.В. Диордиев — определение концепции, визуализация данных, пересмотр и редактирование рукописи, руководство; М.С. Панова, Е.С. Яковлева — написание и редактирование черновика рукописи, анализ данных; И.И. Афуков — пересмотр и редактирование рукописи; Р.В. Шагурин — написание и редактирование черновика рукописи; Э.С. Иванина — пересмотр и редактирование рукописи, анализ данных. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
Additional information
Author contributions: T.V. Linkova: conceptualization, formal analysis, visualization, writing—original draft, writing—review & editing; A.V. Diordiev: conceptualization, visualization, writing—review & editing, supervision; M.S. Panova, E.S. Iakovleva: writing—original draft, writing—review & editing, formal analysis; I.I. Afukov: writing—review & editing; R.V. Shagurin: writing—original draft, writing—review & editing; E.S. Ivanina: writing—review & editing, formal analysis. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published materials (text, images, or data) were used in this work.
Data availability statement: All data generated during this study are available in this article.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
1 Лекарственное средство не зарегистрировано в РФ
About the authors
Tatiana V. Linkova
Scientific and Practical Center for Child Psychoneurology
Author for correspondence.
Email: linkovat@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1272-1350
SPIN-code: 5720-4209
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, MoscowAndrey V. Diordiev
Scientific and Practical Center for Child Psychoneurology; The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
Email: avddoc@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9973-0211
SPIN-code: 3210-5074
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, Moscow; MoscowMarina S. Panova
Scientific and Practical Center for Child Psychoneurology
Email: panova_ms@bk.ru
ORCID iD: 0009-0004-4347-2531
SPIN-code: 8412-4628
Russian Federation, Moscow
Ekaterina S. Iakovleva
Scientific and Practical Center for Child Psychoneurology
Email: iakovlevadoc@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3143-5069
SPIN-code: 1620-0503
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, MoscowIvan I. Afukov
The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov; Children’s City Clinical Hospital No. 9
Email: afukovdoc@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-9850-6779
SPIN-code: 4284-4702
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, Moscow; MoscowRoman V. Shagurin
Scientific and Practical Center for Child Psychoneurology
Email: roman.sharugin@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0002-2425-8973
SPIN-code: 2632-1265
MD
Russian Federation, MoscowElina S. Ivanina
Clinical and Research Institute of Emergency Pediatric Surgery and Trauma — Dr. Roshal’s Clinic
Email: ivanina.eli@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0001-7684-7836
SPIN-code: 3369-1107
MD
Russian Federation, MoscowReferences
- Mion G. History of anaesthesia: The ketamine story — past, present and future. Eur J Anaesthesiol. 2017;34(9):571–575. doi: 10.1097/EJA.0000000000000638
- McCarthy DA, Chen G, Kaump DH, Ensor C. General Anesthetic and Other Pharmacological Properties of 2-(O-Chlorophenyl)-2-Methylamino Cyclohexanone HCl (CI-581). J. New Drug. 1965;5(1):21–33. doi: 10.1002/j.1552-4604.1965.tb00219.x
- Domino EF, Chodoff P, Corssen G. Pharmacologic effects of CI-581, a new dissociative anesthetic, in man. Clin Pharmacol Ther. 1965;6:279–291. doi: 10.1002/cpt196563279
- Domino EF. Taming the ketamine tiger. Anesthesiology. 2010;113(3):678–684. doi: 10.1097/ALN.0b013e3181ed09a2
- Li L, Vlisides PE. Ketamine: 50 Years of Modulating the Mind. Front Hum Neurosci. 2016;10:612. doi: 10.3389/fnhum.2016.00612
- Sadove MS, Shulman M, Hatano S, Fevold N. Analgesic effects of ketamine administered in subdissociative doses. Anesth Analg. 1971;50(3):452–457. doi: 10.1213/00000539-197105000-00037
- White PF, Way WL, Trevor AJ. Ketamine — its pharmacology and therapeutic uses. Anesthesiology. 1982;56:119–136. doi: 10.1097/00000542-198202000-00007
- Jansen K. Near death experience and the NMDA receptor. BMJ. 1989;298(6689):1708. doi: 10.1136/bmj.298.6689.1708-b 11
- Watkins JC, Jane DE. The glutamate story. Br J Pharmacol. 2006;147 Suppl 1(Suppl 1):S100–S108. doi: 10.1038/sj.bjp.0706444
- Collingridge G. Synaptic plasticity. The role of NMDA receptors in learning and memory. Nature. 1987;330(6149):604–605. doi: 10.1038/330604a0
- Riccardi A, Guarino M, Serra S, et al. Narrative Review: Low-Dose Ketamine for Pain Management. J Clin Med. 2023;12(9):3256. doi: 10.3390/jcm12093256
- Sinner B, Graf BM. Ketamine. Handb Exp Pharmacol. 2008;(182):313–333. doi: 10.1007/978-3-540-74806-9_15
- Simonini A, Brogi E, Cascella M, Vittori A. Advantages of ketamine in pediatric anesthesia. Open Med (Wars). 2022;17(1):1134–1147. doi: 10.1515/med-2022-0509
- Wang X, Lin C, Lan L, Liu J. Perioperative intravenous S-ketamine for acute postoperative pain in adults: A systematic review and meta-analysis. J Clin Anesth. 2021;68:110071. doi: 10.1016/j.jclinane.2020.110071
- Peltoniemi MA, Hagelberg NM, Olkkola KT, Saari TI. Ketamine: A Review of Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Anesthesia and Pain Therapy. Clin Pharmacokinet. 2016;55(9):1059–1077. doi: 10.1007/s40262-016-0383-6
- Barrett W, Buxhoeveden M, Dhillon S. Ketamine: a versatile tool for anesthesia and analgesia. Curr Opin Anaesthesiol. 2020;33(5):633–638. doi: 10.1097/ACO.0000000000000916
- Zanos P, Moaddel R, Morris PJ, et al. Ketamine and Ketamine Metabolite Pharmacology: Insights into Therapeutic Mechanisms. Pharmacol Rev. 2018;70(3):621–660. doi: 10.1124/pr.117.015198
- Pourmand A, Mazer-Amirshahi M, Royall C, Alhawas R, Shesser R. Low dose ketamine use in the emergency department, a new direction in pain management. Am J Emerg Med. 2017;35(6):918–921. doi: 10.1016/j.ajem.2017.03.005
- Visser E, Schug SA. The role of ketamine in pain management. Biomed Pharmacother. 2006;60(7):341–348. doi: 10.1016/j.biopha.2006.06.021
- Cohen SP, Bhatia A, Buvanendran A, et al. Consensus Guidelines on the Use of Intravenous Ketamine Infusions for Chronic Pain From the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, the American Academy of Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists. Reg Anesth Pain Med. 2018;43(5):521–546. doi: 10.1097/AAP.0000000000000808
- Schwenk ES, Pradhan B, Nalamasu R, et al. Ketamine in the Past, Present, and Future: Mechanisms, Metabolites, and Toxicity. Curr Pain Headache Rep. 2021;25(9):57. doi: 10.1007/s11916-021-00977-w
- Iacobucci GJ, Visnjevac O, Pourafkari L, Nader ND. Ketamine: An Update on Cellular and Subcellular Mechanisms with Implications for Clinical Practice. Pain Physician. 2017;20(2):E285–E301. doi: 10.36076/ppj.2017.e301
- Forget P, Cata J. Stable anesthesia with alternative to opioids: Are ketamine and magnesium helpful in stabilizing hemodynamics during surgery? A systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2017;31(4):523–531. doi: 10.1016/j.bpa.2017.07.001
- Cohen SP, Liao W, Gupta A, Plunkett A. Ketamine in pain management. Adv Psychosom Med. 2011;30:139–161. doi: 10.1159/000324071
- Mendell LM. The Path to Discovery of Windup and Central Sensitization. Front Pain Res (Lausanne). 2022;3:833104. doi: 10.3389/fpain.2022.833104
- Savić Vujović K, Jotić A, Medić B, et al. Ketamine, an Old-New Drug: Uses and Abuses. Pharmaceuticals (Basel). 2023;17(1):16. doi: 10.3390/ph17010016
- Highland JN, Zanos P, Riggs LM, et al. Hydroxynorketamines: Pharmacology and Potential Therapeutic Applications. Pharmacol Rev. 2021;73(2):763–791. doi: 10.1124/pharmrev.120.000149
- Pacheco Dda F, Romero TR, Duarte ID. Central antinociception induced by ketamine is mediated by endogenous opioids and μ- and δ-opioid receptors. Brain Res. 2014;1562:69–75. doi: 10.1016/j.brainres.2014.03.026
- Culp C, Kim HK, Abdi S. Ketamine Use for Cancer and Chronic Pain Management. Front Pharmacol. 2021;11:599721. doi: 10.3389/fphar.2020.599721
- Zhou C, Liang P, Liu J, et al. HCN1 Channels Contribute to the Effects of Amnesia and Hypnosis but not Immobility of Volatile Anesthetics. Anesth Analg. 2015;121(3):661–666. doi: 10.1213/ANE.0000000000000830
- Hallikeri SV, Sinha R, Ray BR, et al. Effect of Low-dose Ketamine on Inflammatory Markers, Perioperative Analgesia, and Chronic Pain in Patients Undergoing Laparoscopic Inguinal Hernia Surgery: A Prospective, Randomized, Double-blind, Comparative Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2024;52(6):231–239. doi: 10.4274/TJAR.2024.241771
- Shaked G, Czeiger D, Dukhno O, et al. Ketamine improves survival and suppresses IL-6 and TNFalpha production in a model of Gram-negative bacterial sepsis in rats. Resuscitation. 2004;62(2):237–242. doi: 10.1016/j.resuscitation.2004.02.015
- Volkov SG, Vereshagin EI, Lebedeva MN. Neuroprotection by ketamine. Modern Problems of Science and Education. 2022;(3):152. doi: 10.17513/spno.31809 EDN: WGRFVG
- Goyal S, Agrawal A. Ketamine in status asthmaticus: A review. Indian J Crit Care Med. 2013;17(3):154–161. doi: 10.4103/0972-5229.117048
- Gao L, Han J, Bai J, et al. Nicotinic Acetylcholine Receptors are Associated with Ketamine-induced Neuronal Apoptosis in the Developing Rat Retina. Neuroscience. 2018;376:1–12. doi: 10.1016/j.neuroscience.2018.01.057
- Leung LS, Luo T. Cholinergic Modulation of General Anesthesia. Curr Neuropharmacol. 2021;19(11):1925–1936. doi: 10.2174/1570159X19666210421095504
- Pitsikas N. The nicotinic α7 receptor agonist GTS-21 but not the nicotinic α4β2 receptor agonist ABT-418 attenuate the disrupting effects of anesthetic ketamine on recognition memory in rats. Behav Brain Res. 2020;393:112778. doi: 10.1016/j.bbr.2020.112778
- Watson N, Eglen RM. Effects of muscarinic M2 and M3 receptor stimulation and antagonism on responses to isoprenaline of guinea-pig trachea in vitro. Br J Pharmacol. 1994;112(1):179–187. doi: 10.1111/j.1476-5381.1994.tb13049.x
- Zakharov DV, Kokareva DD. Syalorrhea as a multidisciplinary problem. The review of possible causes and therapeutic solutions. Nervnye bolezni. 2023;(1):32–38. doi: 10.24412/2226-0757-2023-12842 EDN: YXUUJL
- Proctor GB, Carpenter GH. Salivary secretion: mechanism and neural regulation. Monogr Oral Sci. 2014;24:14–29. doi: 10.1159/000358781
- Elverdin JC, Kaniucki MO, Stefano FJ, Perec CJ. Physiological role of alpha-adrenoceptors in salivary secretion. Acta Odontol Latinoam. 1990;5(1):31–38.
- Brown L, Christian-Kopp S, Sherwin TS, et al. Adjunctive atropine is unnecessary during ketamine sedation in children. Acad Emerg Med. 2008;15(4):314–318. doi: 10.1111/j.1553-2712.2008.00074.x
- Lu J, Nelson LE, Franks N, et al. Role of endogenous sleep-wake and analgesic systems in anesthesia. J Comp Neurol. 2008;508(4):648–662. doi: 10.1002/cne.21685
- Pal D, Hambrecht-Wiedbusch VS, Silverstein BH, Mashour GA. Electroencephalographic coherence and cortical acetylcholine during ketamine-induced unconsciousness. British Journal of Anaesthesia. 2015;114(6):979–989. doi: 10.1093/bja/aev095
- Kushikata T, Yoshida H, Kudo M, et al. Role of coerulean noradrenergic neurones in general anaesthesia in rats. Br J Anaesth. 2011;107(6):924–929. doi: 10.1093/bja/aer303
- Kubota T, Anzawa N, Hirota K, Yoshida H, Kushikata T, Matsuki A. Effects of ketamine and pentobarbital on noradrenaline release from the medial prefrontal cortex in rats. Can J Anaesth. 1999;46(4):388–392. doi: 10.1007/BF03013235
- Lydic R, Baghdoyan HA. Ketamine and MK-801 decrease acetylcholine release in the pontine reticular formation, slow breathing, and disrupt sleep. Sleep. 2002;25(6):615–620. doi: 10.1093/sleep/25.6.615
- Lee U, Ku S, Noh G, et al. Disruption of frontal-parietal communication by ketamine, propofol, and sevoflurane. Anesthesiology. 2013;118(6):1264–1275. doi: 10.1097/ALN.0b013e31829103f5
- Blain-Moraes S, Lee U, Ku S, Noh G, Mashour GA. Electroencephalographic effects of ketamine on power, cross-frequency coupling, and connectivity in the alpha bandwidth. Front Syst Neurosci. 2014;8:114. doi: 10.3389/fnsys.2014.00114
- Bonhomme V, Vanhaudenhuyse A, Demertzi A, et al. Resting-state Network-specific Breakdown of Functional Connectivity during Ketamine Alteration of Consciousness in Volunteers. Anesthesiology. 2016;125(5):873–888. doi: 10.1097/ALN.0000000000001275
- Schroeder KE, Irwin ZT, Gaidica M, et al. Disruption of corticocortical information transfer during ketamine anesthesia in the primate brain. Neuroimage. 2016;134:459–465. doi: 10.1016/j.neuroimage.2016.04.039
- Wong JJ, O’Daly O, Mehta MA, et al. Ketamine modulates subgenual cingulate connectivity with the memory-related neural circuit-a mechanism of relevance to resistant depression? PeerJ. 2016;4:e1710. doi: 10.7717/peerj.1710
- Muthukumaraswamy SD, Shaw AD, Jackson LE, et al. Evidence that Subanesthetic Doses of Ketamine Cause Sustained Disruptions of NMDA and AMPA-Mediated Frontoparietal Connectivity in Humans. J Neurosci. 2015;35(33):11694–11706. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0903-15.2015
- Traber DL, Wilson RD, Priano LL. Differentiation of the Cardiovascular Effects of CI-581. Anesthesia & Analgesia. 1968;47(6):769–778. doi: 10.1213/00000539-196811000-00025
- Eikermann M, Grosse-Sundrup M, Zaremba S, et al. Ketamine activates breathing and abolishes the coupling between loss of consciousness and upper airway dilator muscle dysfunction. Anesthesiology. 2012;116(1):35–46. doi: 10.1097/ALN.0b013e31823d010a
- Hlavaty L, Hansma P, Sung L. Contribution of opiates in sudden asthma deaths. Am J Forensic Med Pathol. 2015;36(1):49–52. doi: 10.1097/PAF.0000000000000138
- Rehder KJ. Adjunct Therapies for Refractory Status Asthmaticus in Children. Respir Care. 2017;62(6):849–865. doi: 10.4187/respcare.05174
- Green SM, Roback MG, Krauss B. Laryngospasm during emergency department ketamine sedation: a case-control study. Pediatr Emerg Care. 2010;26(11):798–802. doi: 10.1097/PEC.0b013e3181fa8737
- Shapiro HM, Wyte SR, Harris AB. Ketamine anaesthesia in patients with intracranial pathology. Br J Anaesth. 1972;44(11):1200–1204. doi: 10.1093/bja/44.11.1200
- Rueda Carrillo L, Garcia KA, Yalcin N, Shah M. Ketamine and Its Emergence in the Field of Neurology. Cureus. 2022;14(7):e27389. doi: 10.7759/cureus.27389
- Alkhachroum A, Der-Nigoghossian CA, Mathews E, et al. Ketamine to treat super-refractory status epilepticus. Neurology. 2020;95(16):e2286–e2294. doi: 10.1212/WNL.0000000000010611
- Andropoulos DB. Effect of Anesthesia on the Developing Brain: Infant and Fetus. Fetal Diagn Ther. 2018;43(1):1–11. doi: 10.1159/000475928
- Choudhury D, Autry AE, Tolias KF, Krishnan V. Ketamine: Neuroprotective or Neurotoxic? Front Neurosci. 2021;15:672526. doi: 10.3389/fnins.2021.672526
- Olney JW, Labruyere J, Price MT. Pathological changes induced in cerebrocortical neurons by phencyclidine and related drugs. Science. 1989;244(4910):1360–1362. doi: 10.1126/science.2660263
- Olney JW, Labruyere J, Wang G, et al. NMDA antagonist neurotoxicity: mechanism and prevention. Science. 1991;254(5037):1515–1518. doi: 10.1126/science.1835799
- Laws JC, Vance EH, Betters KA, et al. Acute Effects of Ketamine on Intracranial Pressure in Children With Severe Traumatic Brain Injury. Crit Care Med. 2023;51(5):563–572. doi: 10.1097/CCM.0000000000005806
- Hertle DN, Dreier JP, Woitzik J, et al. Effect of analgesics and sedatives on the occurrence of spreading depolarizations accompanying acute brain injury. Brain. 2012;135(Pt 8):2390–2398. doi: 10.1093/brain/aws152
- Wang L, Deng B, Yan P, et al. Neuroprotective effect of ketamine against TNF-α-induced necroptosis in hippocampal neurons. J Cell Mol Med. 2021;25(7):3449–3459. doi: 10.1111/jcmm.16426
- Rodrigo R, Cauli O, Boix J, et al. Role of NMDA receptors in acute liver failure and ammonia toxicity: therapeutical implications. Neurochem Int. 2009;55(1-3):113–118. doi: 10.1016/j.neuint.2009.01.007
- Beaudrie-Nunn AN, Wieruszewski ED, Woods EJ, et al. Efficacy of analgesic and sub-dissociative dose ketamine for acute pain in the emergency department. Am J Emerg Med. 2023;70:133–139. doi: 10.1016/j.ajem.2023.05.026
- Ahern TL, Herring AA, Miller S, Frazee BW. Low-Dose Ketamine Infusion for Emergency Department Patients with Severe Pain. Pain Med. 2015;16(7):1402–1409. doi: 10.1111/pme.12705
- Mailis A, Taenzer P. Evidence-based guideline for neuropathic pain interventional treatments: spinal cord stimulation, intravenous infusions, epidural injections and nerve blocks. Pain Res Manag. 2012;17(3):150–158. doi: 10.1155/2012/794325
- Schwenk ES, Viscusi ER, Buvanendran A, et al. Consensus Guidelines on the Use of Intravenous Ketamine Infusions for Acute Pain Management From the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, the American Academy of Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists. Reg Anesth Pain Med. 2018;43(5):456–466. doi: 10.1097/AAP.0000000000000806
- Nowacka A, Borczyk M. Ketamine applications beyond anesthesia — A literature review. Eur J Pharmacol. 2019;860:172547. doi: 10.1016/j.ejphar.2019.172547
- Subdissociative-Dose Ketamine for Analgesia. Ann Emerg Med. 2018;71(3):e35. doi: 10.1016/j.annemergmed.2018.01.026
- Davis WD, Davis KA, Hooper K. The Use of Ketamine for the Management of Acute Pain in the Emergency Department. Adv Emerg Nurs J. 2019;41(2):111–121. doi: 10.1097/TME.0000000000000238
- Duhaime MJ, Wolfson AB. Ketamine Versus Opioids for Acute Pain in the Emergency Department. Acad Emerg Med. 2020;27(8):781–782. doi: 10.1111/acem.13976
- Balzer N, McLeod SL, Walsh C, Grewal K. Low-dose Ketamine For Acute Pain Control in the Emergency Department: A Systematic Review and Meta-analysis. Acad Emerg Med. 2021;28(4):444–454. doi: 10.1111/acem.14159
- Li X, Hua GC, Peng F. Efficacy of intranasal ketamine for acute pain management in adults: a systematic review and meta-analysis. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021;25(8):3286–3295. doi: 10.26355/eurrev_202104_25738
- Oliveira J E Silva L, Lee JY, Bellolio F, et al. Intranasal ketamine for acute pain management in children: A systematic review and meta-analysis. Am J Emerg Med. 2020;38(9):1860–1866. doi: 10.1016/j.ajem.2020.05.094
- Yousefifard M, Askarian-Amiri S, Rafiei Alavi SN, et al. The Efficacy of Ketamine Administration in Prehospital Pain Management of Trauma Patients; a Systematic Review and Meta-Analysis. Arch Acad Emerg Med. 2019;8(1):e1.
- Gorlin AW, Rosenfeld DM, Ramakrishna H. Intravenous sub-anesthetic ketamine for perioperative analgesia. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2016;32(2):160–167. doi: 10.4103/0970-9185.182085
- Niesters M, Martini C, Dahan A. Ketamine for chronic pain: risks and benefits. Br J Clin Pharmacol. 2014;77(2):357–367. doi: 10.1111/bcp.12094
- Schwartzman RJ, Alexander GM, Grothusen JR, et al. Outpatient intravenous ketamine for the treatment of complex regional pain syndrome: a double-blind placebo controlled study. Pain. 2009;147(1-3):107–115. doi: 10.1016/j.pain.2009.08.015
- Voute M, Riant T, Amodéo JM, et al. Ketamine in chronic pain: A Delphi survey. Eur J Pain. 2022;26(4):873–887. doi: 10.1002/ejp.1914
- Jiao J, Fan J, Zhang Y, Chen L. Efficacy and Safety of Ketamine to Treat Cancer Pain in Adult Patients: A Systematic Review. J Pain Symptom Manage. 2024;67(3):e185–e210. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2023.11.004
- Chah N, Jones M, Milord S, et al. Efficacy of ketamine in the treatment of migraines and other unspecified primary headache disorders compared to placebo and other interventions: a systematic review. J Dent Anesth Pain Med. 2021;21(5):413–429. doi: 10.17245/jdapm.2021.21.5.413
- Kuki I, Inoue T, Fukuoka M, et al. Efficacy and safety of ketamine for pediatric and adolescent super-refractory status epilepticus and the effect of cerebral inflammatory conditions. J Neurol Sci. 2024;459:122950. doi: 10.1016/j.jns.2024.122950
- Wang HZ, Wang LY, Liang HH, et al. Effect of caudal ketamine on minimum local anesthetic concentration of ropivacaine in children: a prospective randomized trial. BMC Anesthesiol. 2020;20(1):144. doi: 10.1186/s12871-020-01058-y
- Ibrahim L, Diazgranados N, Luckenbaugh DA, et al. Rapid decrease in depressive symptoms with an N-methyl-d-aspartate antagonist in ECT-resistant major depression. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2011;35(4):1155–1159. doi: 10.1016/j.pnpbp.2011.03.019
- Murrough JW, Iosifescu DV, Chang LC, et al. Antidepressant efficacy of ketamine in treatment-resistant major depression: a two-site randomized controlled trial. Am J Psychiatry. 2013;170(10):1134–1142. doi: 10.1176/appi.ajp.2013.13030392
- Murrough JW, Soleimani L, DeWilde KE, et al. Ketamine for rapid reduction of suicidal ideation: a randomized controlled trial. Psychol Med. 2015;45(16):3571–3580. doi: 10.1017/S0033291715001506
- Donoghue AC, Roback MG, Cullen KR. Remission From Behavioral Dysregulation in a Child With PTSD After Receiving Procedural Ketamine. Pediatrics. 2015;136(3):e694–696. doi: 10.1542/peds.2014-4152
- Kokkinou M, Irvine EE, Bonsall DR, et al. Reproducing the dopamine pathophysiology of schizophrenia and approaches to ameliorate it: a translational imaging study with ketamine. Mol Psychiatry. 2021;26(6):2562–2576. doi: 10.1038/s41380-020-0740-6
- Subramanian S, Haroutounian S, Palanca BJA, Lenze EJ. Ketamine as a therapeutic agent for depression and pain: mechanisms and evidence. J Neurol Sci. 2022;434:120152. doi: 10.1016/j.jns.2022.120152
- Noppers IM, Niesters M, Aarts LPHJ, et al. Drug-induced liver injury following a repeated course of ketamine treatment for chronic pain in CRPS type 1 patients: a report of 3 cases. Pain. 2011;152(9):2173–2178. doi: 10.1016/j.pain.2011.03.026
- Morgan CJ, Curran HV. Ketamine use: a review. Addiction. 2012;107(1):27–38. doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03576.x
- Stoker AD, Rosenfeld DM, Buras MR, et al. Evaluation of Clinical Factors Associated with Adverse Drug Events in Patients Receiving Sub-Anesthetic Ketamine Infusions. J Pain Res. 2019;12:3413–3421. doi: 10.2147/JPR.S217005
- Blonk MI, Koder BG, van den Bemt PM, Huygen FJ. Use of oral ketamine in chronic pain management: a review. Eur J Pain. 2010;14(5):466–472. doi: 10.1016/j.ejpain.2009.09.005
- Harvey M, Sleigh J, Voss L, et al. Development of Rapidly Metabolized and Ultra-Short-Acting Ketamine Analogs. Anesth Analg. 2015;121(4):925–933. doi: 10.1213/ANE.0000000000000719
Supplementary files