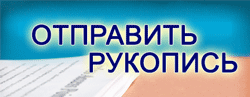Блокада межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник, как компонент интенсивной терапии острого панкреатита: пилотное проспективное рандомизированное исследование
- Авторы: Шапкин М.А.1, Шолин И.Ю.1, Черпаков Р.А.2,3, Суряхин В.С.1, Корячкин В.А.4,5, Сафин Р.Р.5
-
Учреждения:
- Городская клиническая больница им. В.М. Буянова
- Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии
- Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
- Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
- Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Выпуск: Том 18, № 1 (2024)
- Страницы: 73-84
- Раздел: Оригинальные исследования
- Статья получена: 05.01.2024
- Статья одобрена: 13.02.2024
- Статья опубликована: 26.03.2024
- URL: https://rjraap.com/1993-6508/article/view/625466
- DOI: https://doi.org/10.17816/RA625466
- ID: 625466
Цитировать
Аннотация
Обоснование. Аналгезия является значимым компонентом лечения пациентов с острым панкреатитом и всё чаще включает в себя использование регионарной аналгезии. В последние годы внимание анестезиологического сообщества привлечено к менее инвазивным и более безопасным методам обезболивания, в частности к блокаде межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник (ESP-блокада), однако публикации по её применению при остром панкреатите единичны.
Цель. Провести клиническую оценку билатеральной блокады межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник, у пациентов с острым панкреатитом.
Материалы и методы. Проведено пилотное проспективное рандомизированное исследование. Пациентов распределили на 2 группы: в 1-й группе (n=7) использовали ESP-блокаду, во 2-й (n=12) — эпидуральную аналгезию (ЭА). Первичными результатами считали оценку интенсивности болевого синдрома и потребность в анальгетиках, дополнительными — функциональное состояние печени, почек, кислотно-основное состояние, уровень воспалительного ответа, время появления перистальтики.
Результаты. Уменьшение интенсивности болевого синдрома в обеих группах носило однонаправленный характер: через 8 ч в 1-й группе оно составляло 3,57±1,98 балла по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ), во 2-й — 2,91±1,97 балла по ЦРШ, через 24 ч — 1,42±1,27 и 1,75±2,3 балла по ЦРШ соответственно. Статистически значимой разницы в интенсивности боли между группами не установлено (p >0,05). Средний расход кеторолака в 1-й группе был равен 78,2±16,3 мг, во 2-й — 63,28±17,23 мг на 1 пациента (р <0,05). Средняя потребность в наркотических аналгетиках на 1 пациента в пересчёте на морфин в 1-й группе составляла 22±8, во 2-й — 36,3±17,2 мг (р <0,05). В процессе терапии динамика активности α-амилазы крови, темп диуреза, уровень креатинина, скорость клубочковой фильтрации не имели значимой разницы между группами, так же, как и показатели pH, BE (дефицит оснований) и концентрации лактата крови (p >0,05). Возникновение перистальтики было зафиксировано в 1-й группе через 12,49±19,73, во 2-й — через 16,9±21,3 ч (р <0,05). Длительность нахождения в реанимации между группами на различалась и составляла 62±3ч и 62±7 ч соответственно (p >0,05).
Заключение. Билатеральная блокада межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник, при остром панкреатите является простым и безопасным методом аналгезии, аналогичным по своему анальгетическому эффекту и влиянию на показатели гомеостаза эпидуральной блокаде. Требуется дальнейшее изучение роли и места блокады межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник, в лечении боли при остром панкреатите.
Полный текст
ОБОСНОВАНИЕ
В настоящее время острый панкреатит (ОП) занимает одно из ведущих мест по заболеваемости в структуре ургентной хирургической патологии [1, 2], которая составляет 30–40 случаев на 100 тыс. населения в год [3]. У пациентов с ОП в 80–95% случаев регистрируют выраженную боль в эпигастрии или диффузные боли в животе [4]. Аналгезия является значимым компонентом лечения пациентов с ОП.
Для купирования болевого синдрома у пациентов с ОП используют мультимодальный подход, включающий различные комбинации нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), парацетамола, наркотических анальгетиков, эпидуральную аналгезию (ЭА). Эффективное лечение боли при ОП варьирует от введения простых обезболивающих препаратов, которые могут быть достаточными для пациентов с лёгким течением заболевания, до введения сильнодействующих опиоидных препаратов в случаях тяжёлого течения болезни [5].
Широко используемые НПВП (кеторолак, диклофенак, кетопрофен), которые включены в большинство европейских протоколов по лечению ОП, а также правовращающий стереоизомер кетопрофена декскетопрофен [6], имеют ряд недостатков: не всегда адекватный анальгетический эффект, повышенная кровоточивость ран, желудочно-кишечные кровотечения, нефротоксические эффекты. НПВП и парацетамол могут обеспечить адекватное облегчение боли у пациентов с ОП по сравнению с опиоидами [7]. Тем не менее показано, что аминоцетафен сам может способствовать развитию ОП [8]. В недавних исследованиях установлено, что НПВП по анальгетической эффективности не уступают наркотическим анальгетикам [9, 10].
Общепринято, что применение наркотических анальгетиков (в частности морфина) у пациентов с ОП нежелательно ввиду вероятности возникновения спазма сфинктера Одди и усугубления внутрипротоковой гипертензии в поджелудочной железе, снижения моторики желудочно-кишечного тракта, развития тошноты и рвоты, кожного зуда, тахифилаксии. Однако следует отметить, что в настоящее время отсутствуют данные, свидетельствующие о негативном влиянии опиоидов (морфина, фентанила) на исход заболевания [11, 12].
Лечение пациентов с болевым синдромом при тяжёлом ОП всё чаще включает в себя использование ЭА, характеризующейся рядом преимуществ при сравнении с методами опиоидного обезболивания [13]. Так, ЭА обеспечивает купирование болевого синдрома, улучшает перфузию поджелудочной железы [7] и, кроме того, способствует предупреждению развития респираторного дистресс-синдрома, острого почечного повреждения и даже вероятности наступления летального исхода [14]. Тем не менее использование ЭА сопряжено с высоким риском развития артериальной гипотонии, усиления тяжести интоксикации, а также с возможностью возникновения нежелательной моторной блокады нижних конечностей с ограничением активности пациентов [15, 16].
Существует вполне обоснованное мнение о том, ЭА уже не является «золотым стандартом» послеоперационного обезболивания [17]. В последние годы внимание анестезиологического сообщества привлечено к менее инвазивным и более безопасным, но не менее эффективным альтернативам ЭА: паравертебральным блокадам, блокадам поперечной мышцы живота, блокадам межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник (erector spinae plane block, ESP-блок) [18]. Публикации по применению ESP-блока при ОП единичны [19, 20].
Цель исследования — произвести клиническую оценку билатеральной блокады межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник, у пациентов с ОП.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Проведено пилотное проспективное рандомизированное исследование.
Процедура рандомизации
Рандомизацию осуществляли методом случайных чисел (рис. 1). Группу ESP-блока обозначили номером 1, группу ЭА — номером 2. Рандомизацию проводили при помощи ресурса https://randstuff.ru/.
Рис. 1. Схема рандомизации пациентов.
Fig. 1. Patient randomization scheme.
Критерии соответствия
Критерии включения:
- пациенты, страдающие ОП, установленным на основании наличия 2 из 3 критериев — характерная боль в животе, повышение активности сывороточной амилазы более чем в 3 раза превышающее верхний предел нормы, и результаты компьютерной томографии органов брюшной полости (некроз паренхимы и перипанкреатической зоны) [21];
- пациенты, давшие письменное добровольное информированное согласие на участие в исследовании;
- возраст от 18 до 65 лет;
- установленный диагноз ОП с болевым синдромом интенсивностью ≥6 баллов по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ) и более.
Критерии невключения:
- возраст <18 и >65 лет;
- <10 и >20 баллов по шкале APACHE II (шкала оценки степени тяжести заболевания и прогнозирования летальности);
- >6 баллов по шкале SOFA (шкала оценки органной недостаточности и риска летальности);
- терминальная стадия неизлечимых заболеваний;
- тяжёлая сопутствующая патология в стадии суб- и декомпенсации;
- беременность;
- сепсис;
- синдром полиорганной недостаточности;
- шок различной этиологии;
- нарушения газообмена (PaO2 <60 мм рт.ст.);
- противопоказания для катетеризации эпидурального пространства.
Критерии исключения:
- развившаяся тяжёлая полиорганная недостаточность с оценкой 6 баллов по шкале SOFA;
- декомпенсация хронической сопутствующей патологии;
- нарушение протокола исследования;
- отказ от участия в исследовании.
Условия проведения и продолжительность исследования
Исследование проводили в отделении реанимации для хирургических больных № 3 ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова» (Москва) в период с 1 ноября 2022 по 1 ноября 2023 года.
Описание медицинского вмешательства
Блокада межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник
В положении пациента лёжа на боку после обработки области пункции антисептическим раствором при помощи ультразвукового исследования (УЗИ) визуализировали отросток ThVII, затем смещали датчик латерально на 3–4 см влево и определяли поперечный отросток ThVII, трапециевидную мышцу и мышцы, выпрямляющие позвоночник. Под ультразвуковым контролем иглу 18 G проводили на глубину 30 мм до «упора» в поверхность поперечного отростка позвонка ThVII и с целью гидросепарации тканей выполняли инъекцию 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида, после чего вводили 25–30 мл 0,2% раствора ропивакаина из расчёта 0,4 мл/кг. После введения раствора местного анестетика в пространство гидросепарации тканей на глубину 30–40 мм устанавливали катетер. Процедуру постановки катетера повторяли с противоположной стороны. В катетеры при помощи эластомерной помпы вводили 0,2% раствор ропивакаина со скоростью 3,0–7,0 мл/ч.
Эпидуральная блокада
Пункцию и катетеризацию эпидурального пространства проводили под местной анестезией срединным доступом на уровне ThVI–ThVII. Для идентификации правильности расположения иглы использовали метод «потери сопротивления». Катетер заводили на глубину 4–6 см. Тест-дозу осуществляли введением 4 мл 2% раствора лидокаина. После отрицательной аспирационной пробы к катетеру подсоединяли бактериальный фильтр. Катетер фиксировали к коже лейкопластырем. Инфузию 0,2% раствора ропивакаина проводили при помощи шприцевого насоса со скоростью от 3,0 до 10,0 мл/ч.
Исходы исследования
Основной исход исследования
Первичными результатами считали оценку выраженности болевого синдрома на фоне проводящихся блокад и потребность в наркотических анальгетиках.
Дополнительные исходы исследования
Дополнительные исходы включали в себя функциональное состояние печени, почек, кислотно-основное состояние (КОС), уровень воспалительного ответа, время появления перистальтики, а также длительность нахождения пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Анализ в подгруппах
Перед началом лечения в зависимости от вида регионарной анестезии всех пациентов распределили на 2 сопоставимые по характеристикам группы: 1-я группа (n=7) — пациенты, которым была проведена ESP-блокада, 2-я группа (n=12) — пациенты, которым выполняли ЭА.
Методы регистрации исходов
При поступлении в ОРИТ пациентам проводили оценку физического состояния по классификации Американского общества анестезиологов (ASA), определяли степень органной дисфункции по шкале SOFA и риски наступления неблагоприятного исхода по шкале APACHE II.
Все пациенты получали стандартную интенсивную терапию, основанную на клинических рекомендациях [11], включающую аналгезию, инфузионную терапию, спазмолитики, зондовое питание.
Интенсивность болевого синдрома определяли по 10-балльной ЦРШ. Фиксировали потребность в опиоидах.
Амилазное соотношение к концу 1-х сут определяли по формуле [22]:
Степень повреждения поджелудочной железы определяли по активности α-амилазы крови, мочевыделительную функцию почек оценивали по темпу диуреза, фильтрационную функцию — по скорости клубочковой фильтрации (СКФ), уровню креатинина. Степень тканевой гипоксии оценивали при помощи лактата крови и показателей КОС, выраженность воспаления — по числу лейкоцитов, концентрации прокальцитонина и C-реактивного белка (СРБ). Кроме того, при помощи УЗИ определяли время возникновения перистальтики. Фиксировали нежелательные явления (брадикардию, артериальную гипотонию, парез кишечника, гастростаз). Оценивали длительность нахождения пациентов в ОРИТ. Все перечисленные показатели фиксировали при поступлении (исходные значения) и через 8, 24, 48 и 72 ч после проведения аналгезии.
Этическая экспертиза
Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России (протокол № 8 от 12.09.2022).
Статистический анализ
Принципы расчёта размера выборки
Размер выборки предварительно не рассчитывали.
Методы статистического анализа данных
Статистический анализ проведён с помощью программы "MedCalc v. 22 2024" (MedCalc Software Ltd, США). Данные представлены в виде таблиц. Оценивали средние значения и среднеквадратическое отклонение (Me ± SD). Для оценки количественных переменных использовали U-тест Манна–Уитни. Различия считали статистически значимыми при p <0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники исследования
Окончательно в исследование были включены 19 пациентов, разделённых на 2 сопоставимые по своим характеристикам группы. Для обезболивания в 1-й группе (n=7) использовали ESP-блок, во 2-й (n=12) — ЭА (табл. 1). Статистически значимые различия между группами отсутствовали (p >0,05).
Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика обследованных пациентов
Table 1. Characteristics of patients
Характеристики | 1-я группа (n=7) | 2-я группа (n=12) |
Мужчины, n | 2 | 7 |
Женщины, n | 5 | 5 |
Возраст, лет | 55,28±10,56 | 46,25±9,05 |
ИМТ, кг/м2 | 28,8±7,05 | 28,67±4,55 |
ASA, II/III класс | 3/4 | 5/7 |
SOFA, баллы | 2,42±1,13 | 2,75±1,35 |
APACHE II, баллы | 14,85±4,81 | 11,58±3,36 |
Примечание. ИМТ — индекс массы тела, ASA — классификация степени риска общей анестезии, SOFA — шкала оценки органной недостаточности и риска летальности, APACHE II — шкала оценки степени тяжести заболевания и прогнозирования летальности.
Note. ИМТ — Body Mass Index, ASA — classification of the risk level of general anesthesia, SOFA — Sequential Organ Failure Assessment Scale to assess organ failure, mortality and sepsis risk in ICU patients, APACHE-II — Acute Physiology and Chronic Health Evaluation to measure disease severity in adult ICU patients and predict mortality.
Основные результаты исследования
Исходно интенсивность боли в 1-й группе составляла 9,14±1,21, во 2-й — 8,91±1,26 балла по ЦРШ. Аналгезия в условиях ESP-блокады развивалась через 19,71±3,09, при ЭА — через 31,6±11,14 мин.
Интенсивность болевого синдрома через 8 ч после блокады в 1-й группе была равна 3,57±1,98, во 2-й — 2,91±1,97 балла по ЦРШ. Через 24 ч интенсивность боли составляла 1,42±1,27 и 1,75±2,3 балла по ЦРШ соответственно. На 4-й точке наблюдения (48 ч) уровень боли на фоне ESP-блока был равен 1,28±1,25, на фоне ЭА — 1,33±1,43 балла по ЦРШ, через 72 ч — 1,13±0,42 и 0,98±0,81 балла по ЦРШ соответственно.
В качестве НПВП применяли кеторолак в дозировке 30 мг, он был использован через 8 ч в 1-й группе у 4, во 2-й — у 2 пациентов; через 24 ч — у 6 и 5 пациентов соответственно. Через 48 ч НПВП вводили 6 пациентам в 1-й и 3 пациентам — во 2-й группе; через 72 ч НПВП использовали у 3 человек в каждой группе. Суммарный расход НПВП за всё время наблюдения в 1-й группе составил 78,2±16,3, во 2-й — 63,28±17,23 мг на 1 пациента.
Показания для назначения наркотических анальгетиков возникли через 8 ч в 1-й группе у 2 пациентов, во 2-й — у 5 человек; через 24 ч — у 1 и 7 пациентов соответственно. Спустя 48 ч в 1-й группе показаний для введения опиатов не было, во 2-й их вводили 6 пациентам, а через 72 ч в обеих группах наркотики не использовались. Средняя потребность в наркотических анальгетиках на 1 пациента за всё время наблюдения в 1-й группе в пересчёте на морфин составила 22±8, во 2-й группе — 36,3±17,2 мг.
Интенсивность болевого синдрома через 8 ч после блокады в 1-й группе снизилась на 62, во 2-й — на 67%. Интенсивность боли через 8 ч обезболивания в группе 1 составила 3,57±1,98 против 2,91±1,97 балла по ЦРШ в группе 2. В 3-й точке интенсивность боли в 1-й группе была равна 1,42±1,27 против 1,75±2,3 балла по ЦРШ во 2-й группе. Через 48 ч — 1,28±1,25 против 1,33±1,43 балла по ЦРШ, в 5-й точке наблюдения — 1,13±0,42 и 0,98±0,81 балла по ЦРШ соответственно. Динамика снижения интенсивности болевого синдрома представлена на рис. 2.
Рис. 2. Динамика интенсивности болевого синдрома на фоне ESP-блока и эпидуральной блокады в наблюдаемых группах пациентов.
Примечание. ESP-блок — блокада межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник, ЭА — эпидуральная аналгезия, * — р <0,05 по сравнению с исходными данными.
Fig. 2. Dynamics of pain intensity during ESP block and epidural anesthesia.
Note. ESP-block — erector spinae plane block, ЭA — epidural analgesia, * — р <0.05 compared with the initial indicators.
На фоне проводящегося обезболивания у всех пациентов обеих групп была возможна безболезненная глубокая пальпация живота. Статистически значимой разницы в интенсивности боли между группами выявлено не было (p >0,05).
Дополнительные результаты исследования
Изменения показателей гомеостаза на фоне анестезии представлены в табл. 2.
Таблица 2. Динамика показателей гомеостаза в исследуемых группах (Me ± SD)
Table 2. Dynamics of homeostasis indicators (Me ± SD)
Показатель | Группа | Периоды наблюдения | ||||
Исходно | Через 8 ч | Через 24 ч | Через 48 ч | Через 72 ч | ||
Амилаза, ед/л | ESP-блок | 838,57±62,88 | 692±301,2 | 397,32±194,33 | 208,85±188,3 | 66,6±51,2** |
ЭА | 1044,66±289,33 | 914,76±69 | 517,83±192,14 | 231,83±118,3 | 107,5±21,6** | |
Креатинин, мкмоль/л | ESP-блок | 89,75±48,06 | 68,14±19,9* | 57,82±16,89*,** | 73,28±23,09 | 70,41±12,77 |
ЭА | 101,92±46,54 | 91,8±37,66** | 87,25±27,6** | 73,41±15,18 | 75,75±13,03 | |
Темп диуреза, мл/мин | ESP-блок | 0,31±0,11 | 1,23±0,21*,** | 0,79±0,45** | 1,31±0,32** | 0,95±0,25** |
ЭА | 0,43±0,21 | 0,65±0,39 | 0,75±0,41** | 1,36±0,46** | 0,84±0,23** | |
СКФ, мл/мин на 1,73 м2 | ESP-блок | 91,57±27,58 | 98,8±16,65 | 108,16±14,1 | 99,83±24,28 | 100,8±8,63 |
ЭА | 81,66±12,1 | 100,6±19,4 | 92,16±28,93 | 98,9±21,1 | 97,6±8,4 | |
pH | ESP-блок | 7,402±0,07 | 7,392±0,03 | 7,398±0,06 | 7,436±0,07 | 7,421±0,05 |
ЭА | 7,396±0,05 | 7,374±0,08 | 7,399±0,02 | 7,421±0,04 | 7,394±0,07 | |
BE, ммоль/л | ESP-блок | 1,12 ±0,29 | -0,13±0,42 | -0,15±0,35 | 0,32±0,29 | 0,71±0,39 |
ЭА | -0,23±0,36 | -0,73±0,30 | -1,1±0,19 | -0,9±0,26 | 1,2±0,22 | |
Лактат, ммоль/л | ESP-блок | 1,35±1,37 | 1,38±0,72 | 1,58±0,66 | 1,26±0,69 | 0,89±0,33 |
ЭА | 1,26±0,58 | 1,1±0,51 | 1,31±0,41 | 1,31±0,21 | 0,97±0,21 | |
Лейкоциты, × 109/л | ESP-блок | 11,7±2,14 | 10,98±1,12 | 5,7±0,98*,** | 9,89±0,69** | 6,8±1,12** |
ЭА | 14,81±5,3 | 11,39±1,17 | 7,9±1,1** | 8,31±0,31** | 7,92±3,11** | |
ПКТ, нг/мл | ESP-блок | 0,09±0,01 | 0,07±0,11 | 0,69±0,12*,** | 0,09±0,08 | 0,11±0,03 |
ЭА | 0,12±0,03 | 0,09±0,01 | 0,91±0,31** | 0,19±0,07 | 0,09±0,01 | |
СРБ, мг/л | ESP-блок | 84,5±31,6 | 99,32±21,2* | 79,32±12,2* | 78,21±23,21 | 41±1,39** |
ЭА | 98,24±21,33 | 119±12,2** | 133,61±13,3** | 88,21±19,9 | 39,2±16,8** | |
Примечание. * — р <0,05 по сравнению с группой ЭА, ** — р <0,05 по сравнению с исходными показателями. ESP-блок — блокада межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник, ЭА — эпидуральная аналгезия, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, pH –– водородный показатель, BE — дефицит оснований, ПКТ — прокальцитонин. СРБ — C-реактивный белок.
Note. * — р <0.05 compared with the EA group, ** — р <0.05 compared with the initial indicators. ESP-блок — erector spinae plane block, ЭA — epidural analgesia, СКФ — glomerular filtration rate, pH — pondus hidrogeni, BE — base excess, ПКТ — procalcitonin, СРБ — C-reactive protein.
Амилазное соотношение к концу 1-х сут госпитализации в группе ESP-блока составляло 4,09±1,82, в группе ЭА — 4,94±2,7 ед/л. В процессе терапии динамика снижения активности α-амилазы крови была схожей, без значимых различий между группами (p >0,05).
Темп диуреза в первые 8 ч составлял в 1-й группе 1,23±0,21 мл/мин, во 2-й — 0,65±0,39 мл/мин (p >0,05), через 24 ч — 0,79±0,45 мл/мин и 0,75±0,41 мл/мин соответственно (р <0,05). Через 48 ч в 1-й группе темп диуреза был равен 1,31±0,32мл/мин, во 2-й — 1,36±0,46 мл/мин (р <0,05), через 72 ч — 0,95±0,25 мл/мин и 0,84±0,23 мл/мин соответственно. Концентрация креатинина в первые 8 ч в 1-й группе составила 68,14±19,9 ммоль/л, во 2-й — 91,8±37,66 ммоль/л (р <0,05), через 24 ч — 57,82±16,89 ммоль/л и 87,25±27,6 ммоль/л соответственно (р <0,05). Через 48 ч в 1-й группе содержание креатинина было равно 73,28 ммоль/л, во 2-й — 73,41±15,18 ммоль/л (р <0,05), через 72 ч — 70,41±12,77 ммоль/л и 75,75±13,03 ммоль/л соответственно. Изменения СКФ не имели статистически значимой разницы между группами (p >0,05). Также не имели значимой разницы между группами такие показатели, как pH (водородный показатель), BE (дефицит оснований) и уровень лактата крови (p >0,05).
В процессе лечения уровень лейкоцитоза в обеих группах снижался, при этом статистически значимая разница была зафиксирована только через 24 ч: в среднем содержание лейкоцитов в крови в 1-й группе составило 5,7×109/л, во 2-й — 7,9×109/л (р <0,05).
Обратило на себя внимание существенное повышение концентрации прокальцитонина через 24 ч, которое в 1-й группе составило 0,69±0,12 нг/мл, во 2-й — 0,91±0,31 нг/мл и оказалось статистически значимо (р <0,05) выше по сравнению с исходными данными.
Уровень СРБ в обеих группах значимо увеличивался через 8 ч по сравнению с исходными показателями, а затем плавно снижался: через 72 ч он составил в 1-й группе 41±1,39 мг/л, во 2-й — 39,2±16,8 мг/л. Статистически значимая (р <0,05) разница между группами была зарегистрирована только через 24 ч от начала лечения.
Возникновение перистальтики после вмешательства зафиксировали в группе ESP-блока через 12,49±19,73 ч, в группе ЭА — через 16,9±21,3 ч.
Развитие гастростаза было зарегистрировано у 3-х пациентов в 1-й группе и у 4-х человек — во 2-й. В обеих группах всем больным с гастростазом с помощью УЗИ был установлен назоеюнальный зонд. Гастростаз в 1-й группе разрешился через 13,96±16,2 ч, во 2-й — через 18,33±8,36 ч.
В группе ESP-блока значимых изменений артериального давления и частоты сердечных сокращений зафиксировано не было (p >0,05), все показатели находились в пределах нормы. В группе ЭА у 2 пациентов была отмечена брадикардия, у 1 человека — артериальная гипотония, успешно устранённая увеличением темпа инфузионной терапии.
В группе ESP-блока 1 пациент жаловался на болезненность в месте постановки катетера. В группе ЭА 2 пациентов отмечали боль в области спины, которая ощущалась с интенсивностью до 1,0 балла по ЦРШ, имела периодический характер и не требовала дополнительного обезболивания.
Длительность нахождения в ОРИТ между группами на различалась и составила 62±3ч и 62±7 ч соответственно (p >0,05).
Нежелательные явления
В ходе проведения исследования были зарегистрированы следующие нежелательные явления:
- брадикардия и артериальная гипотония (n=1), обусловленные выраженной симпатической блокадой на фоне ЭА;
- болезненность в месте постановки катетера (n=2) в группе ЭА, которая происходила из-за сложностей при установке эпидурального катетера на фоне морбидного ожирения;
- парез кишечника (n=6) в обеих группах — относительно часто сопровождает течение острого панкреатита, что укладывается в течение заболевания, как и явления гастростаза.
Летальных исходов зарегистрировано не было.
ОБСУЖДЕНИЕ
Резюме основного результата исследования
Основным результатом нашего исследования стало доказательство того, что при лечении ОП билатеральная блокада межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник, по своему анальгетическому эффекту и влиянию на показатели гомеостаза аналогична эпидуральной блокаде и может быть использована в клинической практике как альтернатива ЭА.
Обсуждение основного результата исследования
Пациенты с ОП обычно нуждаются в переводе в ОРИТ из-за выраженного болевого синдрома, тошноты и рвоты, нарушения дыхания и острой почечной недостаточности. Всемирное общество неотложной хирургии считает одной из основных проблем в лечении ОП аналгезию [23], которая наряду с НПВП и опиоидами включает и ЭА. Показано, что ЭА обеспечивает адекватное обезболивание у 87,5–100% пациентов [24], способствует улучшению перфузии поджелудочной железы, устраняет ишемию и снижает воспалительный ответ [25].
В связи с возможными осложнениями, в число которых включают артериальную гипотонию, эпидуральные гематому или эпидуральный абсцесс, в настоящее время ЭА используют нечасто. Более того, недавнее многоцентровое рандомизированное исследование не показало пользы от ЭА при лечении ОП [26]. Применение ESP-блока при ОП в основном описано в клинических случаях [20, 27, 28].
Полученные нами сведения об увеличении времени развития эффектов ЭА связаны с тем, что для обеспечения стабильных показателей гемодинамики в условиях ОП и гиповолемии мы исключили «нагрузочную» болюсную дозу и использовали только непрерывную инфузию ропивакаина. Данные о влиянии такого подхода на артериальное давление полностью согласуются с результатами работы других авторов [29].
В нашем исследовании болеутоляющий эффект между группами оказался схожим, при этом потребность в назначении НПВП на 1 пациента в 1-й группе составила 78,2±16,3 мг, во 2-й — 63,28±17,23 мг. Доза опиатов в пересчёте на морфин в группе ESP-блока была статистически значимо меньше (22±8 мг) по сравнению с группой ЭА (36,3±17,2 мг; р <0,05). Уменьшение количества наркотических анальгетиков снижало вероятность развития спазма сфинктера Одди, усугубления внутрипротоковой гипертензии, развития тошноты и рвоты, кожного зуда, угнетения дыхания [12]. Полученные нами результаты о снижении потребления опиоидов на фоне ESP-блока подтверждают данные других авторов [30, 31].
Ещё в начале 2000-х гг. было высказано мнение о том, что повторные определения активности сывороточной амилазы имеют малую диагностическую ценность в оценке динамики состояния пациента и прогноза заболевания [32]. Относительно недавно A. Kumaravel и соавт. [33] была предложена модель, позволяющая определить вероятность развития тяжёлого ОП. Позже W. Hong и соавт. [22] показали, что пациенты с соотношением амилазы 2-й день / 1-й день, равным 0,3 и более, имели более высокую частоту тяжёлого ОП, чем пациенты с более низким соотношением. В нашем исследовании амилазное соотношение к началу 2-х сут госпитализации в группе ESP-блока составляло 4,09±1,82, в группе ЭА — 4,94±2,7. Несмотря на то, что амилазное соотношение превышало 0,3, именно качественная аналгезия и улучшение перфузии поджелудочной железы способствовали отсутствию тяжёлых осложнений ОП.
На фоне ESP-блока, механизм действия которого заключается в блокаде как вентральных, так и дорсальных ветвей спинномозговых нервов, обеспечивая тем самым соматическую и висцеральную аналгезию [34] за счёт улучшения спланхнического кровотока [35], темп диуреза прогрессивно увеличивался. Об улучшении перфузии поджелудочной железы косвенно свидетельствовала и СКФ, которая находилась в пределах нормальных значений.
В нашем наблюдении содержание лактата и величины pH и BE находились в рамках референсных значений без статистически значимой разницы между группами, что указывает на то, что у пациентов с ОП на фоне ESP-блокады и ЭА сохранялась адекватность тканевой перфузии [36], а за счёт блокады симпатических нервов происходило перераспределение спланхнического кровотока в неперфузируемые участки поджелудочной железы [7].
К концу 1-х сут лечения мы отметили существенное повышение концентрации прокальцитонина и СРБ, являющихся одними из наиболее чувствительных лабораторных тестов для определения инфицированного панкреонекроза и развития осложнений [37]. Считается, что повышение содержания прокальцитонина и СРБ связано с нарушением барьерной функции желудочно-кишечного тракта и транслокацией токсинов в кровь [38]. По истечении 2 сут лечения было отмечено восстановление перистальтики и снижение уровня прокальцитонина и СРБ.
ESP-блок по сравнению с ЭА имеет, наряду с технической простотой, существенные преимущества, включающие минимальный риск развития артериальной гипотонии, эпидуральной гематомы и прочих осложнений [39]. Если осложнения ЭА хорошо известны [40], то при ESP-блокаде описаны развитие пневмоторакса, моторной блокады, системной токсичности местного анестетика, приапизма [41]. В нашем исследовании серьёзных осложнений и летальных исходов не наблюдалось.
Ограничения исследования
Исследование имеет несколько ограничений. Во-первых, оно носило одноцентровой характер, во-вторых, в силу малого числа наблюдений предварительного расчета размера выборки не проводилось, поэтому для окончательного утверждения значения ESP-блока потребуется проведение крупных рандомизированных исследований, в-третьих, наши данные получены в период нахождение пациентов в стационаре, поэтому отдалённые исходы после операции мы не оценивали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы полагаем, что несмотря на ограниченный размер выборки, имеются все основания считать билатеральную блокаду межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник, которая эффективно купирует соматическую и висцеральную боль при остром панкреатите и улучшает спланхнический кровоток, перспективным методом регионарной анестезии. Билатеральная блокада межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник, является простым и безопасным методом аналгезии, способствует уменьшению потребности в наркотических средствах и служит альтернативой эпидуральной анестезии в случае невозможности её использования. Требуется дальнейшее изучение роли и места блокады межфасциального пространства мышц, выпрямляющих позвоночник, в лечении боли при остром панкреатите.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Источник финансирования. Не указан.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с проведённым исследованием и публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. М.А. Шапкин — сбор и обработка материалов, анализ полученных данных, написание текста статьи; Р.А. Черпаков, И.Ю. Шолин, В.С. Суряхин, Р.Р. Сафин — анализ полученных данных, написание текста статьи; В.А. Корячкин — разработка концепции статьи, написание и редактирование текста статьи.
Об авторах
Михаил Алексеевич Шапкин
Городская клиническая больница им. В.М. Буянова
Email: Mihailshapkin6230@gmail.com
ORCID iD: 0009-0007-6570-7786
SPIN-код: 9777-8714
врач анестезиолог-реаниматолог
Россия, МоскваИван Юрьевич Шолин
Городская клиническая больница им. В.М. Буянова
Email: scholin.i@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2770-2857
SPIN-код: 8730-4250
канд. мед. наук, заведующий отделением
Россия, МоскваРостислав Александрович Черпаков
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии; Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Email: Zealot333@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0514-2177
SPIN-код: 1467-7499
научный сотрудник
Россия, Москва; МоскваВиктор Станиславович Суряхин
Городская клиническая больница им. В.М. Буянова
Email: surjakhin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9651-4759
канд. мед. наук, руководитель службы реанимации и интенсивной терапии
Россия, МоскваВиктор Анатольевич Корячкин
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; Казанский (Приволжский) федеральный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: vakoryachkin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3400-8989
SPIN-код: 6101-0578
д-р мед. наук, профессор кафедры
Россия, Санкт-Петербург; КазаньРустам Рафильевич Сафин
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Email: safin_r.r@hotmail.com
ORCID iD: 0000-0003-0960-7426
SPIN-код: 7464-7151
д-р мед. наук, врач анестезиолог-реаниматолог
Россия, КазаньСписок литературы
- Jaber S., Garnier M., Asehnoune K., et al. Guidelines for the management of patients with severe acute pancreatitis, 2021 // Anaesth Crit Care Pain Med. 2022. Vol. 41, N 3. P. 101060. doi: 10.1016/j.accpm.2022.101060
- Мизгирев Д.В., Кремлев В.В., Неледова Л.А., Поздеев В.Н., Катышева А.А., Дуберман Б.Л. Острый некротический панкреатит — причины летальных исходов: одноцентровое ретроспективное исследование // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2019. Т. 12, № 1. С. 29–37. doi: 10.18499/2070-478X-2019-12-1-29-37
- Petrov M.S., Yadav D. Global epidemiology and holistic prevention of pancreatitis // Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019. Vol. 16, N 3. P. 175–184. doi: 10.1038/s41575-018-0087-5
- Szatmary P., Grammatikopoulos T., Cai W., et al. Acute Pancreatitis: Diagnosis and Treatment // Drugs. 2022. Vol. 82, N 12. P. 1251–1276. doi: 10.1007/s40265-022-01766-4
- Schorn S., Ceyhan G.O., Tieftrunk E., et al. Pain Management in Acute Pancreatitis. Pancreapedia: Exocrine Pancreas Knowledge Base, 2015. doi: 10.3998/panc.2015.15
- Gülen B., Dur A., Serinken M., et al. Pain treatment in patients with acute pancreatitis: A randomized controlled trial // Turk J Gastroenterol. 2016. Vol. 27, N 2. P. 192–196. doi: 10.5152/tjg.2015.150398
- Pandanaboyana S., Huang W., Windsor J.A., Drewes A.M. Update on pain management in acute pancreatitis // Curr Opin Gastroenterol. 2022. Vol. 38, N 5. P. 487–494. doi: 10.1097/MOG.0000000000000861
- He Y.H., Lu L., Wang Y.F., et al. Acetaminophen-induced acute pancreatitis: A case report and literature review // World J Clin Cases. 2018. Vol. 6, N 9. P. 291–295. doi: 10.12998/wjcc.v6.i9.291
- Thavanesan N., White S., Lee S., et al. Analgesia in the Initial Management of Acute Pancreatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials // World J Surg. 2022. Vol. 46, N 4. P. 878–890. doi: 10.1007/s00268-021-06420-w
- Cai W., Liu F., Wen Y., et al. Pain Management in Acute Pancreatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials // Front Med (Lausanne). 2021. N 8. P. 782151. doi: 10.3389/fmed.2021.782151
- Острый панкреатит. Клинические рекомендации [интернет]. Общероссийская общественная организация «Российское общество хирургов», 2020. Режим доступа: http://xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/stranica-pravlenija/klinicheskie-rekomendaci/urgentnaja-abdominalnaja-hirurgija/ostryi-pankreatit-versija-sentjabr-2020.html. Дата обращения: 23.02.2024.
- Пугаев А.В., Ачкасов Е.Е. Острый панкреатит. Москва: ИНФРА-М, 2019.
- Гребенчиков О.А. Купирование болевого синдрома у пациентов с острым панкреатитом // Гастроэнтерология. Хирургия. Интенсивная терапия. Consilium Medicum. 2019. № 2. С. 35–40. doi: 10.26442/26583739.2019.2.190374
- Wang Q., Fu B., Su D., Fu X. Impact of early thoracic epidural analgesia in patients with severe acute pancreatitis // Eur J Clin Invest. 2022. Vol. 52, N 6. P. e13740. doi: 10.1111/eci.13740
- Ситкин С.И., Поздняков О.Б., Голубенкова О.В. Использование длительной эпидуральной анальгезии в лечении острого панкреатита (обзор литературы) // Верхневолжский медицинский журнал. 2016. Т. 15, № 4. С. 39–44. EDN: XAYLBZ
- Фролков В.В., Красносельский М.Я., Овечкин А.М. Продленная эпидуральная блокада в комплексной интенсивной терапии тяжелого острого панкреатита // Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2015. Т. 9, № 1. С. 38–44. doi: 10.17816/RA36248
- Rawal N. Epidural technique for postoperative pain: gold standard no more? // Reg Anesth Pain Med. 2012. Vol. 37, N 3. P. 310–317. doi: 10.1097/AAP.0b013e31825735c6
- Rawal N. Epidural analgesia for postoperative pain: Improving outcomes or adding risks? // Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2021. Vol. 35, N 1. P. 53–65. doi: 10.1016/j.bpa.2020.12.001
- Das S., Chatterjee N., Mitra S. Managing acute pancreatitis pain with bilateral erector spinae plane catheters in a patient allergic to opioids and NSAIDS: A case report // Saudi J Anaesth. 2023. Vol. 17, N 1. P. 87–90. doi: 10.4103/sja.sja_292_22
- Mantuani D., Josh Luftig P.A., Herring A, et al. Successful emergency pain control for acute pancreatitis with ultrasound guided erector spinae plane blocks // Am J Emerg Med. 2020. Vol. 38, N 6. P. 1298.e5–1298.e7. doi: 10.1016/j.ajem.2020.02.005
- Багненко С.Ф., Гольцов В.Р., Савелло В.Е., Вашетко Р.В. Классификация острого панкреатита: современное состояние проблемы // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. 2015. Т. 174, № 5. С. 86–92. doi: 10.24884/0042-4625-2015-174-5-86-92
- Hong W., Zheng L., Lu Y., et al. Non-linear correlation between amylase day 2 to day 1 ratio and incidence of severe acute pancreatitis // Front Cell Infect Microbiol. 2022. N 12. P. 910760. doi: 10.3389/fcimb.2022.910760
- Leppäniemi A., Tolonen M., Tarasconi A. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis // World J Emerg Surg. 2019. N 14. P. 27. doi: 10.1186/s13017-019-0247-0
- Hui R.W.H., Leung C.M. Thoracic epidural analgesia in acute pancreatitis: a systematic review // Pancreas. 2022. Vol. 51, N 7. P. e95–e97. doi: 10.1097/MPA.0000000000002111
- Windisch O., Heidegger C.P., Giraud R., et al. Thoracic epidural analgesia: a new approach for the treatment of acute pancreatitis? // Crit Care. 2016. Vol. 20, N 1. P. 116. doi: 10.1186/s13054-016-1292-7
- Jabaudon M., Genevrier A., Jaber S., et al. Thoracic epidural analgesia in intensive care unit patients with acute pancreatitis: the EPIPAN multicenter randomized controlled trial // Crit Care. 2023. Vol. 27, N 1. P. 213. doi: 10.1186/s13054-023-04502-w
- Allos M.T., Zukowski D.M., Fidkowski C.W. Erector spinae plane continuous catheters for refractory abdominal pain related to necrotizing pancreatitis: A case report // A A Pract. 2021. Vol. 15, N 11. P. e01543. doi: 10.1213/XAA.0000000000001543
- Gopinath B., Mathew R., Bhoi S., et al. Erector spinae plane block for pain control in patients with pancreatitis in the emergency department // Turk J Emerg Med. 2021. Vol. 21, N 3. P. 129–132. doi: 10.4103/2452-2473.320806
- Смолин Н.С., Храпов К.Н. Применение эпидуральной анестезии при абдоминальных хирургических вмешательствах // Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2022. Т. 19, № 2. С. 64–73. doi: 10.21292/2078-5658-2022-19-2-64-73
- Kwon H.M., Kim D.H., Jeong S.M., et al. Does Erector Spinae Plane Block Have a Visceral Analgesic Effect? A Randomized Controlled Trial // Sci Rep. 2020. Vol. 10, N 1. P. 8389. doi: 10.1038/s41598-020-65172-0
- Tsui B.C.H., Fonseca A., Munshey F., et al. The erector spinae plane (ESP) block: A pooled review of 242 cases // J Clin Anesth. 2019. N 53. P. 29–34. doi: 10.1016/j.jclinane.2018.09.036
- Yadav D., Agarwal N., Pitchumoni C.S. A critical evaluation of laboratory tests in acute pancreatitis // Am J Gastroenterol. 2002. Vol. 97. N 6. P. 1309–1318. doi: 10.1111/j.1572-0241.2002.05766.x
- Kumaravel A., Stevens T., Papachristou G.I., et al. A Model to Predict the Severity of Acute Pancreatitis Based on Serum Level of Amylase and Body Mass Index // Clin Gastroenterol Hepatol. 2015. Vol. 13, N 8. P. 1496–1501. doi: 10.1016/j.cgh.2015.03.018
- Chin K.J., El-Boghdadly K. Mechanisms of action of the erector spinae plane (ESP) block: a narrative review // Can J Anaesth. 2021. Vol. 68, N 3. P. 387–408. doi: 10.1007/s12630-020-01875-2
- Стаканов А.В. Системная гемодинамика и спланхнический кровоток в условиях предоперационной эпидуральной аналгезии на фоне интраабдоминальной гипертензии при острой толстокишечной непроходимости // Общая реаниматология. 2013. Т. 9, № 2. С. 39. doi: 10.15360/1813-9779-2013-2-39
- van den Berg F.F., Boermeester M.A. Update on the management of acute pancreatitis // Curr Opin Crit Care. 2023. Vol. 29, N 2. P. 145–151. doi: 10.1097/MCC.0000000000001017
- van den Berg F.F., de Bruijn A.C., van Santvoort H.C., et al. Early laboratory biomarkers for severity in acute pancreatitis; A systematic review and meta-analysis // Pancreatology. 2020. Vol. 20, N 7. P. 1302–1311. doi: 10.1016/j.pan.2020.09.007
- Tyagi A., Gupta Y.R., Das S., et al. Effect of Segmental Thoracic Epidural Block on Pancreatitisinduced Organ Dysfunction: A Preliminary Study // Indian J Crit Care Med. 2019. Vol. 23, N 2. P. 89–94. doi: 10.5005/jp-journals-10071-23123
- Okitsu K., Iritakenishi T., Iwasaki M., et al. Paravertebral block decreases opioid administration without causing hypotension during transapical trans-catheter aortic valve implantation // Heart Vessels. 2016. Vol. 31, N 9. P. 1484–1490. doi: 10.1007/s00380-015-0750-5
- Корячкин В.А., Заболотский Д.В., Кузьмин В.В., и др. Анестезиологическое обеспечение переломов проксимального отдела бедренной кости у пожилых и престарелых пациентов (клинические рекомендации) // Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2017. Т. 11, № 2. С. 133–142. doi: 10.18821/1993-6508-2017-11-2-133-142
- Сафин Р.Р., Корячкин В.А., Заболотский Д.В. Забытые пионеры метода блокады мышц-выпрямителей спины: краткий исторический экскурс // Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2023. Т. 17, № 2. С. 89–99. doi: 10.17816/RA375334
Дополнительные файлы